Дмитрий Александрович Пригов как адепт суммарных технологий Успеха. Начало.
Разговорный жанр жизнетворчества. Беседы Дениса Иоффе с деятелями культуры и искусства, созданные для литературно-философскаго журнала «Топос».
 |
| Д.А. Пригов |
Шли мы узкой стежкой, Он мне говорит, Можно вас немножко, Вот сейчас, едрит, П О Ц А Л О В А Т Ь Я ж не отвечала, Головой в ответ ЛА С К О В О К А Ч А Л А Отвечала: НЕТ Н Е Л Ь З Я — Цаловаться с милой — можно лишь с живой. Помнишь, как в могилу, Сам же, милый мой И К Л А Л М Е Н Я И К Л А Л М Е Н Я [Иz цикла Песни советских деревень.]
Некая вязкотелая неловкость, неотменимо возникающая в данный
миг упоенного говорения о дмитирииалександровичепригове
досадно упрощает весь топик жанровой мысли: как возможен разговор
о поэте? Эта фихтеанская чудовищная ряса по-монашески аскетичной
эпистемы избавляет, кажется, меня от неминуемости журнально-специального
вступления. Гомункул мыслеслова. В-стул-пение как прозревание.
Укол — как щеколдовидная елда Самодержавного швейцар-Ца в ягуаровой
шкуре, не пущающего на протир ни единого байта дополнительной
инфоструктуры. Пишите, кому не ведом смысл странных лютер литер
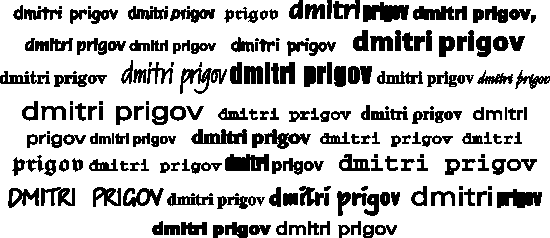 |
(жаль, что читающий-в-сети (рыб миопийный и растяп), не сможет
водить курсором, следя за мельканьем фонтовых имен) дмитрийалександровичпригов,
aka академик, dmitri prigov — оксюморонный шаттл-челнок неразбивающегося
колумбийца-челленджера — бога (иz олимпийцев). Пишите в Гугль,
пишите в Яндекс, Апорты этих широт истекают клавешачьей секрецией
в предвкушении благолепой и дигитальнобыстрой помощи вам. Dmitri
Prigov — pomazannik bodhisattv, византийствующий ритор исправновострого
стила = δμιτςι πςιγοω
— так описал бы имя его анаксимандранаксименанаксагор, ИЛИ НИКОЛАЙПОПРОЗВИЩУКУЗАНСКИЙ!
Именно с таким персонажем, едва ли не самым значимым и плодовитым
автором современной поэзии на русском языке и выпала нам кость
вести разговор, сумма которой предлагается виртуальному вниманию
всякого сетевого буквознайки. Бросались две кости, не одна, поэтому
результат — сумма. Потому-то «выпала кость с персонажем» — это
уже травмопункт жизнетворческого эксперимента, обосновавшийся
в методологии ведения интервью.
...Думается, что ситуацию тех времен можно описать
как почти демократическую, где все были равны, при наличии немного
более равных. Поскольку окончательно круг сложился где-то к концу
70-х, то он состоял из осколков неких предыдущих образований со
своими лидерами. Ну, конечно, значение имел и возраст. Поскольку,
скажем, Монастырский был помоложе меня, то при всем уважении к
нему, я, например, не мог воспринимать его как лидера — возможно,
как одну из наиболее интересных и креативных личностей... Обычно
было достаточно чьей-либо рекоммендации и некое, что ли, рукоположение
авторитетов. Вобщем, все достаточно обычно и весьма функционально.
Но не могу сказать, что круг бы закрытым, эзотерическим и изолированным.
Отбор был по принципу сходности эстетических и социальных установок,
а также по принципу психологической совместимости.
...Жарким летом в Абрамцево у приятеля на даче, мучимый
не то что бессоницей, но некоторым возбуждением, не дававшем уснуть,
среди полнейшей темноты, правда, озаряемой необходимой каноничной
луной, оставил я своих спящих беспробудным сном приятеле и отправился
в поля. Добредя до первого стога, я пристроился у него, и мне
хватило буквально одного взора, брошенного в сторону мерцавших
звезд... А первыми не читателями, но слушателями подобных текстов
стали мои приятели-художники, впрочем, уже подготовленные к подобному
собственной соц-артистской и концептуальной практикой, которая
уже доминировала к тому времени в нашем кругу.
[немного скованно]
Д. И. Начиная нашу с вами беседу на исходе Дня Победы,
в начале Дня Субботнего (каковой у иудеев имеет обыкновение начинаться
с пятничного заката), невольно припоминаешь мифопоэтику. Доводилось
ли Вам соприкоснуться с мифом «Пригов-как-немец», «Пригов-как-пришелец»,
и что бы это могло означать сегодня, в финале дня Победы, когда
потешные огни салютов догорают в прекрасном далеке, а седые головы
ветеранов склонились в молчаливом унынии — память павших: вопиет
в них нимб, и Гермес-Психопомп не успевает сбирать неприкаянные
души давнишних мертвецких парий на пиру жизни. Что для Вас (как
для мифологического немца) этот день? В ушах звенят песенные строки
дикого акционно-аукционного веселья: «Нааа грууди ууу мееняяя
— ДЕНЬ ПОБЕДЫ Ййй!».
[чуть-чуть вальяжно]
Д. А. П. Видите ли, о том, что я, так сказать, немец, мне
довелось узнать весьма поздно, после войны, в возрасте где-то
6 лет. Во время же войны, понятное дело, мои родственники предпочитали
в семье не говорить по-немецки, да так и не заговорили после войны.
Мать моя даже сменила свое отчество с Фридриховна на Александровна,
так как ее отец был по-немецки избыточен в имяназывании — Фридрих
Александр. И фамилию Зайберт сменила на русифицированную фамилию
отца Пригов (Прайхоф). Немецкого я не знал и до сих пор знаю в
весьма и весьма ограниченном объеме. Посему моя языковая и культурная
идентификация абсолютно русская. Тем более, что я работаю в литературе
исключительно с русским поп-материалом (то-есть, с любым материалом
— от идеологического до высокой культуры, от китайских поэтизмов
до германских философизмов, засветившимся в нашей поп-зоне). Единственно,
может, в мой первый же визит в Германию я почувствовал некоторое
что ли психо-соматическое даже родство с кирхами, особенно с их
внутренним пространством. А прочее немецкое культурное наследие
не преимуществует для меня перед остальным европейским. Так что
моя немецкость — рода моего имиджа, Дмитрий Александрович
Пригов. Правда, оба располагаются в почти неразличимой
для некоторых близости ко мне натуральному. Иногда я впадаю в
неразличение и сам. Но это быстро проходит (слава Богу, существуют
на то механизмы и проверочные операции). А победа — она и есть
победа. Правда, благодаря детским воспоминаниям, она не полностью
погружена в идеологический дискурс, но изукрашена и почти красочно
инкрустирована всяческими детскими (посему не тотально-трагическими)
воспоминаниями о деталях уже нынче почти фантасмагорического быта.
А насчет «пришелец» — это уже другая повесть и весьма поздняя.
(Пригов Дмитрий Александрович, Беляевский академик)
Д. И. Дмитрий Александрович, ведь Вы, как я понимаю,
еще и родились в весьма знаковый предвоенный год. Вся Ваша жизнь
пролегала, так сказать, под Знаком Победы Народа, вкупе с Вашей
личной. Как у Брайана Ино с его Волей к тому же самому.
Вообще цифровые закавыки, кажется, совпадают с тотальной концептуализацией
бытия Вас и Ваших друзей по Цеху. Судите сами: Вы родились тогда-то,
Лев Семенович Рубинштейн родился на семь лет позже, однако, этого
было мало, через семь ровно лет родился Владимир Георгиевич Сорокин.
Жаль, что Пепперштейны нарушили эту стройную линию, бездарно ЗАПОЗДАВ.
С какой эманацией вочеловечивания (если попользовать
Вашу терминологику) первопришлось Вам столкнуться в самом начале
биологической жизни? Когда выкристаллизовался тот самый логос
поведенческого праксиса, который и определил Вашу судьбу, закройщицки
решив: Дмитрий Александрович Пригов будет поэтом.
Приоткройте завесу Вашего инфантового бытия, когда все началось?
Д. А. П. Детство, как говорится, было незапоминающееся. Сразу
после войны меня разбил детский паралич. То-есть он разбил всю
мою левую сторону и я пролежал около года. Затем начал выкарабкиваться,
пустив всю свою недюженную пунктуальность и почти маниакальную
настырность (почти непредсказуемую в таком малолетнем возрасте)
на сложнейшую систему последовательных физкультурных манипуляций
по возвращению организма к более-менее регулярному функционированию.
И даже удалось. Даже стал играть в футбол, нисколько не подумывая
ни об изобразительном искусстве, ни о какой-либо поэзии. Да и
не читал особенно. Дa и школу не любил. Просто даже очень не любил.
Всякого рода художества пришли потом и случайно. Сначала скульптурный
кружок в Доме пионеров (причем, в достаточно уже непионерском
возрасте — 16 лет). Потом по инерции, вослед всем приятелям, поступил
в художественный институт на отделение скульптуры. И там начал
писать. Почему? Не знаю. Видимо, были какие-либо предшествующие
этому события или микрособытия квазилитературного свойства. Но
сейчас ничего не припоминается. Все представляется как неожиданное
и ничем не спровоцированное. Так вот, длительное время писал в
доминировавшем тогда мандельштамо-пастернако-ахматово-цветаево-заболоцко-подобном
компоте. Как бы все было общее и никому не принадлежащее. Все
можно было брать и употреблять себе на пользу. Более же осмысленный
способ аппроприации и испытания на прочность всякого рода говорений
и мифов (ну, естественно, в первую очередь большого советского
дискурса) явился мне в его вербальном обличие таким же неожиданным,
почти романтическим способом однажды летней ночью в покошенных
лугах. Да, так вот и было, как ни кажется странным и почти неприличным
даже мне самому. Естественно, что этот поворот был подготовлен
мой деятельностью в сфере визуальной, гораздо более продвинутой
тогда ( да и сейчас), где в ту пору во всей его обольстительной
мощи объявился концептуализм. И я достаточно долго мучался, пытаясь
представить себе способ транспонировки его в сферу вербальную.
Первым же стихотворением, написанным той ночью в тех лугах, было
«Сталин и девочка». На следующий день — «Калинин и девочка». Затем
«Ворошилов и конь». И пошло. Ну, а поскольку вышеназванный концептуализм
(особенно в его московском розливе) предполагал приоритет поведения
и жеста (культурно-эстетического поведения, которое не следует
спутывать с социо-культурным поведением, типа богемы и пьянки),
то с данного момента я и избавился от шизофренической раздвоенности
двух родов. Первый — разведения почти по разным культурным возрастам
моей актуальной и современной визуальной деятельности с традиционным
версификаторством. Второй — разведение выской позиции высокого
художника и простой реальной погруженности в конкретности повседневного
советского быта и языка.
Д. И. «Калинин и девочка» — это невероятно притягательный
интимный узус!
Весьма любопытно было узнать о той знаковой ночи в покошенных
лугах. Можно резюмировать: «Пригов стал
поэтом как извечный первошаман, торя свой собственный путь, камлающий;
человек-финн идет в лес, дабы встретить там своего Карлика, который
наделит его творческой силой Малого Демиурга».
Вы встретили своего. Им был Михаил Иванович Калинин — всесоюзный
гном-прощелыга. Добрый махротный патрикей всея
Руси. Уместно ли здесь говорить о своего рода инициационном
инсайте, вооружившем Вас (как инфанта лирики) в сторону
завзятого био-графического Мусагетства? Кто был хронологически
первым читателем Ваших текстов и какова оказалась его реакция?
Возможно ли говорить о некоей особенной визуализированной специфике
Вашего изначального творческого действия: становление выразительности
посредством жестко-механического приема компоновки строго очерченных
образов языка-в-языке...
[активно включаясь]
Д. А. П. Действительно, несколько даже неудобно говорить
о почти канонически-литературной сценографии прихода ко мне первого
«моего» стихотворения. Но так было. Так видимо устроена принципиальная
небесная пропозиция всякого поэтического. И в этом смысле, в смысле
некоего подобия инициации, я есть, несомненно, поэт (по принципу
порождения), сколько бы ни старался отрицать это, называя себя
прилюдно просто работником культуры.
Конкретные же обстоятельства той ночи нехитры. Жарким летом
в Абрамцево у приятеля на даче, мучимый не то что бессоницей,
но некоторым возбуждением, не дававшим уснуть, среди полнейшей
темноты, правда, озаряемой необходимой каноничной луной, оставил
я своих спящих беспробудным сном приятелей, и отправился в поля.
Добредя до первого стога, я пристроился у него, и мне хватило
буквально одного взора, брошенного в сторону мерцавших звезд.
Насчет же дедушки Калинина могу заметить только, что я, как,
собственно, и вся страна, взаимоотносился, конечно же, с неличностным
поп-образом. С некоей первичной поп-субстанцией,
приобретающей, по обстоятельствам, в зависимости от конкретной
ситуации, образы то Сталина, то Калинина, то
Ворошилова, то его Коня, то Карпова, то Гагарина и т.п. Сам же
я был медиатором, вернее, телом, временно и неверно обретаемой
его плоти.
А первыми не читателями, но слушателями подобных текстов
стали мои приятели-художники, впрочем, уже давно подготовленные
к подобному собственной соц-артистской и концептуальной практикой,
которая давно уже доминировала к тому времени в нашем кругу.
Д. И. Переходя от медиаторных практик Молодого Поэта
к альтюссерианскому пост-бурдьеванию [квази-марксисткому], хотелось
бы поинтересоваться насчет жизненных подспорий в том замшелом
хабитусе хруще-брежневого долбоебизма: на что мог жить Дмитрий
Александрович Пригов в 60е–70е годы? Вы не были Кабаковым или
Брусиловским и не могли вместе с Ппивоваровым-старшим иллюстрировать
(на самом деле — перлюстрировать) детские книжки, что давало какой-то
пук по-ленински твердолобых монет... Диплом скульптора не помогал
Вам в обустройстве советско-баблового бытийства? Кажется, жить
на пыльном шкафу, в родительском чемодане, как Иосифу Александровичу
Бродскому (вы, как бы, ровесники), Вам не доводилось?
[немного устало]
Д. А. П. Все ведь было до чрезвычайности просто. После окончания
института (с разного рода сложностями в виде выгоняния за формализм
и последующего абсурдного восстановления), опротивясь всякими
художественными практиками, я устроился в Главное архитектурное
Управление г. Москвы инспектором по внешней отделки зданий. Работа
была в том, чтобы утром добежать до службы, расписаться «ушел
на объект» и идти в библиотеку. Так я провел семь запоминающихся
лет. Потом встретил случайно своего соученика, у которого горела
работа и он просил подмогнуть ему. Я подмогнул. Да так мы и стали
работать в четыре руки, премного преуспевая в производстве на
всем пространстве СССР крокодилов Генов трехметрового размера
из бетона или аллюминия. Нашли в нашем творчестве отражение и
образы Мюнхаузена, доктора Айболита, львов, коров, прочих животных
и труженников цирка и театральных подмостков в стиле кудрявого
петровского барокко. И, надо сказать, за этот непыльный труд (вернее,
очень пыльный и грязный, но непротивный) платили нам по тем временам
неплохие деньги. Потом я испортил отношения с властью из-за публикаций
за рубежом и на короткое время до перестройки перебивался заработками
ночного сторожа, почтальона и машинистки. Но недолго. Потом настала
пора свободы и всякого разгула. Так и живу.
[хитро ухмыляясь]
Д. И. В связи с выплывающим копчиком «знакомств» и
«круга» было бы небесполезно узнать, насколько общение вообще
(в онтологическом разрезе) и, в особенности, понятие «круга» былo
для Вас неотменимо важно на всех этапах строящегося жизнетекста?
Можно ли сказать, что Вы в иzвестной мере открытый,
для плывущих в руки, наглядно-новых знакомств, человек? Вспоминается
недавний апокриф, рассказанный одним прекрасным питерским Очевидцем;
был бы рад, если бы Вы помогли его верифицировать:
«...своеобразного знакомства с поэтом Приговым. Это было
в Европейском Университете. Я был на лекции Пригова. Потом лекция
закончилась. Я выходил из зала и столкнулся с Эткиндом. Эткинд
мне небрежно кивнул и сквозь меня протиснулся дальше, туда, где
стояла столичная знаменитость — Д. А. Пригов. Эткинд радостно
пошел навстречу Пригову. Борис Кац стал их знакомить. Он сказал:
«Дмитрий Александрович! А вот это Александр Эткинд! Хочу, чтобы
вы познакомились!» На что Пригов, непередаваемо скривившись, ответил:
«Какое неуместное и неприятное знакомство!». Немая сцена».
Как говорится в таких случаях: конец цитаты; начало нового предложения
:-)
[чуть-чуть расстеряно]
Д. А. П. Насчет последней сцены — я ее просто не припоминаю...
Во-вторых, я из людей ненаглых, и скорее сам стерплю что-либо
подобное. В-третьих, возможно, я процитировал любимую мной сцену,
которую кто-то мне пересказал по поводу визита Ахматовой к некоему
содержателю питерского салона. Тот, прощаясь с Ахматовой, как
бы в сторону произнес: «Знакомство абсолютно неинтересное». Если
я и процитировал это, то со всеми необходимыми опознавательными
знаками цитаты и шутки. Тем более, что у меня не было, да и быть
не могло никого предубеждения против Эткинда. Ну да ладно.
Насчет знакомств. Да, в период становления нашего московского
художнического круга, встречи и почти ежедневные общения были
просто необходимы и с горячностью ожидаемы. И, думаю, только таким
коллективно-телесным способом и можно было как-то артикулировать
стоявшие перед нами всеми и каждым в отдельности тогда проблемы.
До сих пор моими лучшими собеседниками являются именно люди того
круга, где бы они ни находились и в каких-бы экзотических странах
и обстоятельствах и через сколь возможно-длительный промежуток
мне ни приходилось бы с ними встречаться.
Д. И. Насколько «демократичным» было это коллективное
тело русского концептуализма? В том смысле, что: надо
ли было обладать некоторыми условно-важными качествами, дабы быть
допущенным в этот «круг художников и поэтов»? Известная кастовость
положений здесь, кажется, может быть легко усмотрена. Помимо эксплицитно
зафиксированной диссидентствующей фронды в отношении Власти, были
ли какие-то другие симптоматические узлы, служившие своего рода
«экзаменом на вшивость» — онтологической проверкой на педикулез,
после которых «членство» очередного «лейдермана» или «ануфриева»
[как молодой поросли] было утверждаемо Священством (Старшими)?
Как Вам, кстати — по нраву ли эта умудренно-сединная роль «Священства»?
Д. А. П. Естественно, как и все компании периода андерграунда,
и наша была достаточно закрыта, по естественной причине естественных
опасений. Но, конечно, отбор шел и по некоторому, что ли, IQ.
Обычно было достаточно чьей-либо рекомендации и некое, что ли,
рукоположение авторитетов. В общем, все достаточно обычно и весьма
функционально. Но не могу сказать, что круг был закрытым, эзотерическим
и изолированным. Отбор был по принципу сходности эстетических
и социальных установок, а также по принципу психологической совместимости.
Тем не менее, если узкий друг приятелей состоял из 10–12 человек,
то широкий круг просто знакомых и частично причастных, думаю,
превышал сотню.
Д. И. Уместно ли вести речь о «коллективном телосе» конституционного
концептуализма? Взаимовлияние, модификации смыслов: свободный
броуновский поток частиц, влекомый к краешку сверхпроводимого
сознания. Кто изначально полагал краеугольно-инициационный импульс
умного деланья в этих непечальных страусино-заусиных
кладо-тропиках искусства? Кабаков или Монacтырский?
А кроме того, в связи с этим возникает вопрос о соотносимости
«Вашего» круга с иными литературными фигурами эпохи зрелого застоя.
Я думаю, сегодня Вы можете легко представить себя участвующим
в любом поэтическом вечере, где, помимо прочих, наличествуют такие
экспонаты как Андрей Георгиевич Битов или Евгений Александрович
Евтушенко... Для Вас-теперешнего это не проблема.
А вот раньше — в «те» героические времена — могли ли Вы стать
частью одного общего текстуально-акционного пространства с каким-нибудь
Рейно-Бродским или Вознесенско-Рожденственским? Не погнушались
бы мэйнстрима-то, да в Политехническом мму-зее?..
[улыбается]
Д. А. П. Думается, что ситуацию тех времен можно описать
как почти демократическую, где все были равны, при наличии немного
более равных. Поскольку окончательно круг сложился где-то к концу
70-х, то он состоял из осколков неких предыдущих образований со
своими лидерами. Ну, конечно, значение имел и возраст. Поскольку,
скажем, Монастырский был помоложе меня, то при всем уважении к
нему, я, например, не мог воспринимать его как лидера — возможно,
как одну из наиболее интересных и креативных личностей.
Насчет прочего пейзажа официальной и полуофициальной литературы.
Поскольку мы были принципиально андерграундом, то все объявляющееся
и функционирующее в пределах официального было принципиально за
пределами прямых контактов. Ну, возможны были какие-то личные
случайные знакомства. Да и для них мы находились за пределом различаемости,
либо морально-эстетической допустимости.
Д. И. Исходя из определяющих категорий исторического
развития Вашей личностной биокартографии, как бы Вы описали изменение
религиозного плана, налагающегося на деятельность известных текстов.
Политеистическое язычество, выводящее замысловатые рулады во все
концы мыслящей ойкумены, вдруг резкий крен в медитативный аумммм,
дзенннн, протестантско-«иезуитское» волхвование николаяпопрозвищукузанского...
Как эволюционировал Дмитрий Александрович Пригов в роли адепта
тех или иных конфессий?
Д. А. П. Должен опять-таки отметить, что я автор не метафизический
и не описывающий онтологические основы бытия или даже языка. Я
имею дело с эпистемологией. Посему все, кажущееся метафизическим
или онтологическим, — просто примеры и цитаты, взятые для проведения
над ними и с ними процедур испытания на прочность и наличие бациллы
тотальности и тоталитаризма. А отклонения от понятной, хоть и
непростительной, человеческой слабости (кто без нее?).
Д. И. Насколько, в таком случае, Ваша эпистемология
претендует на дискурсовластную тотальность? Обзаводится ли она
приличествующим этому пафосом? Обязали бы Вы, если предельно конкретизировать,
все племя досужих российских школяров чтением Ваших текстов? Впустили
бы (насильственным путем) милицанера и крик кикиморный
в «буквари нашей Родины»? В чем, в пандан этому, может наблюдаться,
по-Вашему, основное эвристическое достижение всего московского
направление-движения «художников и поэтов», к которому Вы принадлежали
и принадлежите?
Д. А. П. В общем-то, вопрос справедлив. Однако, если придерживаться
идейной и поведенческой чистоты, то надо заметить, что предложенная
мной дефиниция моей деятельности предполагает в качестве возможного,
предложенного к потреблению продукта не тексты, а процедуры и
эти сами поведенческие модели и cтратегии, оставляя текстам чисто
фактурное и подспорное функционирование. Но поскольку жить приходится
среди культуры, наделившей всех тотальным текстовым видением (кстати,
это не относится к области contemporary visual art), то приходится
мимикрировать, придавая замечаемым и ценимым уровням манифестации
артистического поведения в обществе некий критериальный уровень
распознавания и потребления.
По поводу круга художников, с которыми я был связан и связан
поныне... Очень трудно говорить обо всех. Но думается, некоторые
подпишутся под моими вышеозначенными заявлениями, во всяком случае,
под частью из них.
Д. И. Исходя из вероятностной ауры случайных слюноотделенных
ниточек всякого «боди-арта», с какой стороны пристало бы рекоммендовать
наиболее адекватную пенетрацию в субстрат Вашего творчества: с
точки отпрыга от акционного, перформативного акциза — или же из
герметически лингвистического англя какого-нибудь якобсоньего
раздумчивого речения? Упрощая: кем Вы являетесь больше, кудесным
текстуальным словесником или пейоративно-интерактивным «художником
тела» (вовлекающим слушателя-зрителя в со-участие происходимому)?
Видите ли Вы какую-нибудь связь с таким поэтическим персонажем
«одноактерного театра», как Петр Мамонов (котрого, как и Вас,
хочется в первую очередь не «читать», но «наблюдать вживую»).
Петр Николаевич рассказывал
мне о некоей шутейно-рубинштейной игре-в-слова, у них на даче
в деревне, где, кажется, резервировалось место и Вам?
Д. А. П. Думается, что все, Вами инкриминированное, вполне
мне подходит, так как любое является персонажем моего длительного
действия-проекта длиной в жизнь. Ну, а отдельные отпадающие капельки
слюны, если они кому приглянутся в модусе понимаемого и воспринимаемого
им вида или жанра художественной деятельности — то только будем
премного рады. Твои сторонники — они всегда твои сторонники. А
сторонники, рекрутируемые со стороны — это всегда чистый прибыток.
[оживленно]
Д. И. Стало быть, если я правильно понимаю Ваши слова
«проект длиною в жизнь», Вы мыслите собственную деятельность в
мусагетстве именно в регистре поэтического жизне-«проекта», интенционально
подпадая жизнетворческому бытованию: как мы об
этом говорили с Нью-Йоркским поэтом Vadym'ом
Tyemirоv’ым?
Всякий ли шаг «публичного» Дмитрия Пригова дигитально «просчитан»
и выверен с целью семиотического взаимодействия с аудиторией?
Есть ли место какой-либо «спонтанности» выражения при таком раскладе?
Я настаиваю именно на «спонтанности», а не на, скажем «импровизации»,
которая, понятное дело, имеет место быть во всяком прямоэфирном
творческом со-бытии... Согласны ли Вы, в таком случае, с позицией
Аркадия Бартова, выраженной в нашем с ним интервью,
сополагающей перформера-концептуалиста с завзятым «ломателем игрушек»,
дитятею-непоседой, раскурочивающим паровозик, озаботившись целью
узнать, «что там внутри»? Как говорит Бартов, Ваше и Рубинштейновское
поэтологическое деконструирование окружающей «традиционной» реальности
подпадает именно под такие (скорбные) определения: вы ломаете
русскую словесность и она поддается. [переводит дух]
Д. А. П. Знаете, проект понимается не в
смысле жизнестроительства, а в смысле некоего проекта-работы.
В этом смысле, на уровне работы с проектом и его конкретным материалом,
присутствуют все те же элементы творчества, как и в любой другой
деятельности. Просто работа другими элементами и на другом уровне
(термин «уровень» не несет на себе никаких черт преимуществования).
Утверждения Бартова вообще смехотворны и свидетельствуют
об обычном отсутствии оптики для чтения концептуальных вещей.
Это очень напоминает ситуацию с реалистами, которые, обретаясь
перед картинами импрессионистов, не находили там желаемого рисунка
и композиции и утверждали, что целью несчастных импрессионистов
является единственно желание разрушить все святое и внятное.
[безуспешно пытается затараторить]
Д. И. Да, а мне показалось, у Аркадия Анатольевича
(в сказанных мне словах) не было каких-либо специально «отрицательных»
смысловых отягощений, да и себя он сам не позиционирует как «рассуждающего
извне», ибо его деятельность изнаночно смыкается с концептуализмом
вообще и соцартизмом в частности. Можно ли отнести Ваше (сквозящее)
неприятие Бартова на счет той самой «кружковой» герметичности,
о которой мы говорили ранее? Питерский концептуалист — уже как
бы не концептуалист, потому что немосковский, некабаковский и
монастырский не. В связи со всплывшей топикой было бы небезынтересно
узнать Вашу позицию в отношении комар-меламидского соц-арта с
одной стороны и, скажем, ТОТ-Арта Абалаковой и Жигалова — с другой.
Насколько внеположены Вам «некружковые» люди (в московском смысле)
из уктусской школы «жестовиков», такие, как Анна-Ры Никонова-Таршис
и Сергей Сигей? Как проистекала (и проистекала ли) Ваша коммуникация
с персонажами плана Эрля и Бирюкова (тоже зело далеких от концептуализма
в каноническом смысле оного термина).
[немного устало]
Д. А. П. Не думаю, что большую роль в моем отношении к творчеству
других и прочих играют какие-то серьезные кружковые эстетическо-нравственные
обязательства. Просто наше знакомство произошло уже в достаточно
позднем зрелом возрасте, чтобы играть в подобные игры. Мы именно
и сошлись по причине уважения друг к другу. Мне, кстати, было
о ту пору 39 лет.
С Никоновой и Сигеем отношения у меня давние и вполне приятельские.
В моем замечании о Бартове тоже нет никакого негатива (вернее,
в той же степени, что и в его) — просто констатация факта принципиального
непонимания и посему выбор неработающей метафоры для описания
феномена концептуалима.
С Эрлем и Бирюковым я знаком, но не в достаточной степени,
чтобы как-то серьезно комментировать их творчество.
Жигаловых я знаю очень давно. Задолго до того, как они обратились
к концептуализму. То-есть тогда, когда кругом давно уже сложился
даже не круг, а круги концептуалистов, осмыслилась и артикулировалась
какая-никакая местная теория всего этого дела, определились свои
высокие и низкие образцы. Они же еще долгое время были ярыми последователями
духовных изысканий в качестве учеников Э.А. Штейнберга. Посему,
каюсь, у меня по тем временам было ощущение, что они сменили род
своей деятельности на концептуальный по причине его большей нарастающей
удачливости. Хотя, оговорюсь, что это нисколько не оценка их творчества.
Многое их проекты вполне качественны. А если говорить о круговщине,
то Жигаловы как раз были включены в наш большой круг.
А вообще-то говоря, я люблю многих авторов, не входящих в
наш круг и даже вовсе не придерживающихся концептуальных принципов,
зачастую относящихся к ним с еле скрываемой неприязнью, если не
с враждою, и люблю некоторых из них больше, чем своих соседей
по профсоюзу.
Окончание следует.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

