Телефутуризм – ориентация на отдаленное будущее
В известной книжке Карла Поппера «Нищета историцизма» Поппер
отвергает историцизм как уверенность, что история развивается по
определенным законам, которыми можно овладеть, и благодаря
этому заняться глобальной перестройкой общества. Если бы Поппер
при этом призвал вообще отказаться от сознательного
вмешательства в социальную жизнь – он был бы по крайне мере
логичен, но Поппер признал возможность «социальной инженерии» – то
есть частных улучшений отдельных социальных институтов.
Между историцизмом, который Поппер отвергает, и социальной
инженерией, которую он признает, нет существенной разницы – и то
и другое представляет собой попытку изменить социальную
реальность на основе знаний о ней. Обе установки предполагают
прогнозы – но историцизм более стратегические, а социальная
инженерия – более тактические. Разница только в масштабе, и
границу между масштабами разного порядка можно провести лишь
интуитивно – историцизм оправдывает глобальные социальные
эксперименты, вроде большевизма, социальная инженерия
предполагает куда менее амбициозное реформаторство. Историцизм мыслит
веками – социальная инженерия не пытается заглянуть дальше,
чем на несколько лет. Нет никаких априорных критериев того,
где кончается достоверные знания об обществе, где кончаются
достоверные прогнозы будущего, и какого максимального
масштаба может достичь социальная реформа.
Во всяком случае, ни Поппер, ни позднейшие мыслители нам ничего
определенного о рациональных правилах проведения подобных границ
не сообщают.
И все же, эта граница, видимо существует, поскольку при её переходе
ориентация на отдаленную по времени цель, на будущее
состояние общества начинает приобретать свойство религиозной веры –
ориентация на будущее начинает сопровождать энтузиазм,
являющийся симптомом того, что речь идет не об обычном прогнозе
и целеполагании, а о более сложном и комплексном
культурно-психологическом явлении.
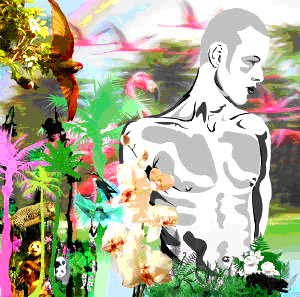 |
В книге Бердяева «Смысл творчества» высказывается мысль, что
современную культуру, мораль и науку характеризует «пассивизм», то
есть стремление приспособиться к действительности, в то
время как истинное творчество должно не приспосабливаться, а
творить новую действительность взамен существующей. Мысль эта
звучит довольно странно, поскольку всякому очевидно, что
наука «приспосабливается» к свойствам существующего мира именно
во имя его изменения. Именно поэтому Василий Зеньковский в
рецензии на книгу Бердяева весьма здраво замечет, что
«никакое объективное творчество для нас неосуществимо без
известного приспособления к данности, и в психологии творчества нет
противоположности между объективным творчеством и
приспособлением, а есть лишь органическая связь двух моментов», и в
частности, «наука, хотя она всюду «приспособлялась» к мировой
данности, пыталась познать мир, как он есть – не теряет от
этого своего творческого характера» _ 1. Точно такое же
возражение Бердяеву на месте Зеньковского сделал бы и любой разумный
человек. Творчество, отвергающее законы реальности может
быть понято только как чудо, причем чудо, предваряемое верой:
вопреки законам реальности, верующий ступает на поверхность
моря – и идет по воде, ступает в пропасть – и вопреки силе
тяготения, идет по воздуху.
Речь идет о субъективном «отвержении» законов реальности, нежелании
с ними считаться – ради прорыва к цели, для достижения
которой законы реальности не имеют значения.
Такая цель должна быть или совсем нереальной, достижимой лишь через
чудо – либо слишком далёкой, так что о влиянии законов
реальности на ее достижение невозможно сказать ничего
достоверного.
Бердяев, говоря о творчестве, отказывающем приспосабливаться к
реальности, фактически описывает психологию ориентации на очень
отдаленные цели. Чем более отдаленной является цель – тем
менее вероятной является ее достижение, тем менее достоверно
можно сказать что-то определенное о ее достижимости. Идя по
этому пути – пути снижения достоверности – мы достигаем
некоторой точки, после которой прогнозируемое будущее становится
настолько сомнительным, что ориентация человека на отдаленную
цель фактически возвращается к самому человеку: важной
становится уже не цель, а порожденное некими причинами желание
человека действовать так, как будто цель достижима. На
человека влияет не будущее, а вера в будущее, но эта вера
порождена не будущим. Такую специфическую ориентацию на отдаленные
цели можно было бы назвать телефутуризмом – имея в виду, что
это ориентация не просто на будущее, но на будущее именно
отдалённое. В понятии «отдаленного будущего» слово
«отдаленность» говорит не о дате, а о специфике человеческого отношения
к предполагаемому состоянию мира – когда оно представляется
наполненным ценностями исполненных желаний и сбывшихся
надежд, но когда его существование представляется сомнительным,
в силу чего знание о нём подменяется верою. При этом,
вопреки недостоверности прогноза, вера переходит в решительность
практически корректировать свои действия, сообразуясь с
перспективой достижения этой недостижимой цели.
Между ближайшим и отделенным будущем существует четкая
психологическая граница – в ближайшее будущее человек действительно верит
– то есть, верит, не осознавая, что верит, а думая, что
знает. В отдалённое будущее человек верит религиозной верой –
то есть верой осознанной и рефлексивной, осознающей свое
отличие от знания и вынужденной подкреплять себя представлениями
о достоинствах веры именно как веры. Пробуждение
религиозного энтузиазма или появление имитирующих неадекватность
энтузиазма злоупотреблений отмечает границу, отделяющую прогноз
«просто будущего» от прогноза «отдаленного будущего».
Стержневой элемент порыва к отдаленному будущему – мысленное
«перепрыгивание» через все ведущие к нему препятствия, в том числе
и через важнейшее из препятствий – осознание
недостоверности прогноза, что такое будущее вообще, когда либо настанет
или может настать.
Решимость достигнуть недостижимой цели принято называть утопизмом –
но слово «утопия» слишком расплывчато и широко. Можно
сказать, что телефутуризм есть разновидность утопизма – это
утопизм, имеющий ярко выраженную темпоральную структуру. Но в то
же время, темпоральная природа телефутуризма является лишь
камуфляжем, скрывающим тот факт, что на самом деле,
телефутуризм – это вообще не футуризм, а лишь особая форма
субъективизма и эстетизма, совокупность выбранных человеком этических и
эстетических императивов, требующих от него изменить свое
поведение – но при этом нуждающихся в обоснование через
отсылку к будущей, хотя и почти не существующей цели. Поведение,
ориентированное на отдаленную цель в определённом смысле
бесцельно.
Чем отдаленнее становится цель – тем более она уменьшается в
размерах, в конце концов, она превращается в точку, но в этой точке
находится «Я» прогнозирующего. Таким образом телефутуризм –
это прежде всего личностное отношение к будущему. К
отдаленному будущему невозможно быть равнодушным – можно либо не
думать о нем вообще, либо иметь отношение глубоко личное,
интимное, субъективное – и интенсивность субъективности замещает
нехватку достоверности.
Возврат к личности человека возникает всякий раз, когда обоснование
поступка помещается в явно фиктивную, исчезающую инстанцию –
и лучшим аналогом «отдаленного будущего» здесь является Бог
– он не присутствует, но он требует действий.
Примером тут могла бы послужить драма Жана Ануя «Томас Бекет». Она
рассказывает об архиепископе кентерберийском Томасе Бекете,
он был другом и верным слугой короля, но после получение сана
архиепископа решил, что служит только Богу, и в результате
противопоставил себя не только королю, но и церкви ( которая
была вовсе не против сотрудничества с королём). Однако, сам
Бекет неоднократно признавался, что Бог не говорит с ним,
не отвечает на его вопросы. Из этого неминуемо следовало, что
поступки, обосновываемые таким далеким и недоступным для
коммуникации источником ценности как Бог, фактически
обосновываются прихотью человека. И пьесе Ануя это разоблачает друг
Беккета – король Генрих II, который говорит, что на самом
деле Бекетом движет не Бог, а эстетика – с точки зрения
архиепископа-ригориста эстетичным является сам жест, эстетично
поступать «как должно» – а цель уже не имеет смысла.
Знаменитый лозунг Бернштейна «Цель – ничто, движение – всё»,
фактически описывает движение к отдаленной цели, ибо отдаленная
цель – действительно «ничто», во всяком случае, она близка к
«ничто» сама по себе – но она весьма существенная как принцип,
перестраивающий сам процесс движения. Таким образом, фигура
Бекета становится амбивалентной, до конца становится не
ясным, ради чего он идет на конфликт с королём, ради чего
принимает смерть – ради Бога, или ради своих представлений об
эстетизме поступков. Но Бекет готов обосновывать свои поступки
обоими способами – тем более, что на практике разница не
велика. И тут мы видим, что телефтуризм, осознавший свою
утопичность становится еще более неуязвимым для критики, поскольку
получает возможность лавировать между футуристическими и
эстетскими самообоснованиями. Если ему указывают на
аморальность действий, телефутуризм оправдывается великой целью, а
если ему указывают на недостоверность достижения намеченных
рубежей, телефутуризм отвечает, что поступает по принципу
«делай, что должно, и будь, что будет». И здесь нет никакого
противоречия, ибо с самого начала ориентация на отдаленную цель
была не более, чем категорическим императивом, знавшим лишь
настоящее – но не будущее.
Точно так же идея Бердяева об активном творчестве может быть
истолкована и как футуристическая, и как актуалистская. Сам Бердяев
говорил, что эпоха творчества ещё не настала, но она придет
– и эта будет то, что Иоахим Флорский называл «Эрой святого
духа». То есть, абсолютное творчество невозможно сегодня –
но только сегодня, оно должно быть рассматриваемо как цель,
и если человек, не способен творить чудеса, не считаясь с
законами мира, то он должен перестроить свою деятельность так,
чтобы постепенно приближаться к состоянию находящегося за
пределами власти законов чудотворца.
С другой стороны, Бердяев говорил о синхронном сосуществовании
разных эпох, и это означает, что и сегодня человек может
подняться до абсолютного творчества, и каковы бы ни были результаты
его порыва – он должен, прежде всего отвергнуть власть
законов, не бояться их – это может, например, принять форму
религиозной веры в чудо, в то, что «для Бога всё возможно».
Таким образом, концепция абсолютного творчества, вне зависимости от
того, помещаем ли мы его в будущее или настоящее, есть
прежде всего перестройка настоящего – и перестройка тем более
глубокая, что воплотиться эта цель в настоящем никак не может.
Нереальные цели требуют более фундаментальных перемен, чем
реальные, поскольку в деятельности по их реализации нет
естественной границы – точки достижения цели, где стоило бы
остановиться. Отсутствие естественной «точки финиша» превращает
нереальную цель в императив бесконечных изменений.
И этот императив тем более суров, что ориентация на отделенное
будущее часто означает враждебность настоящему: монах, ради
грядущего райского блаженства умерщвляет плоть и отказывается от
удовольствий. Большевики расстреливают всех, кто мешает
наступлению коммунизма. Верящие в перспективы науки уменьшают
социальные и военные программы ради финансирования научных
пирамид Хеопса – программ освоения Марса и адронных
коллайдеров.
Если отделённое будущее ничто – то в лице телефутуризм мы видим, как
ничто, которому не удалось существовать, требует и от
реально существующего если не исчезновения, то хотя бы
минимизации. Это означает, что под личиной ориентации на отдаленное
будущее скрывается совсем иная тенденция– воля к минимализму,
воля к аскезе – но идеологией этого минимализма становится
схема сообщающихся сосудов, где роль сосудов играют настоящее
и будущее время: материя не просто умаляется – она
перетекает из настоящего в будущее.
И для этого умаления есть прекрасное обоснование, порожденное именно
мнимо-темпоральной структурой телефутуризма. Ценность
будущего (коммунизма, райского блаженства, всеобщего изобилия)
еще и потому представляется преувеличенно огромной, что у
предполагаемого будущего счастья не просматривается конца.
Применительно к коммунизму или царству Божьему на Земле, можно
говорить о дате их установления – пусть эта дата будет не
точная, расплывчатая, пусть это не конкретная дата, а переходный
процесс, но начало у этих эпох счастья есть. А о конце, о
завершении никто никогда не говорит – более того, в отношении
религиозных вариантов «Золотого века» прямо подчёркивается,
что они будут нескончаемыми. Если никто из тех, кто
компетентно говорит о приходе светлого будущего, не поднимает
вопроса о его сроках и завершении, всем доверяющимся подобным
миллениаристским концепциям не остается ничего другого, как
считать, что светлое будущее приходит «навсегда». А если так,
то эпоха светлого будущего может быть рассматриваемая как
обладающая потенциально-бесконечной ценностью. Таким образом,
нет таких жертв, которые бы не стоило приносить в настоящем
ради будущего – поскольку бесконечно текущее будущее
позволить дать сколько угодно большую компенсацию этих жертв, как бы
они не были велики. И если вам кажется слишком большой
ценой убийство тысяч ради счастья миллионов – то можно столь же
легко пообещать счастье миллиардов. Темпоральность делает
телефутуризм нечувствительным к жертвам, а эстетизм придает
ему страстность – ужасное, но по своему продуктивное
сочетание.
______________________________________________________________________
1. Зеньковский В.В. Собрание сочинений. Том 1. О русской
философии и литературе. М., 2008. С.80-81
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

