Нехапание
Считается, что СССР и социализм рухнули оттого, что не выдержали
соревнование с капитализмом и Западом на материальном поприще.
А я считаю, что потому и рухнули, что стали так
соревноваться, ибо нельзя ж было. То есть катастрофа была заложена в
поприще духовное, раз не догадались, чем могли быть сильны, и в
чём соревноваться смогли б. Как факт, это поприще запустили
совсем, сумели задогматизировать и всячески испохабить чуть
не всё гуманитарное. Чуть не всё. Пушкинистика в своих
лучших достижениях это «чуть не всё» обеспечила собою. Левое
шестидесятничество, авторская песня – эти поддержали честь
искусства. Нет правила без исключений, как говорится.
Я говорю о времени после войны.
 |
Институт русской литературы АН СССР (ИРЛИ) или Пушкинский дом. Г. Санкт-Петербург
Ну так если Битов взялся в «Пушкинском Доме» (1964-1971) опорочить
советское духовное, то, конечно же, лучше всего было порочить
пушкинистику, а левое шестидесятничество, например, просто
не заметить.
Как он, точнее повествователь, опорочил пушкинистику? Он своего
героя поместил работать в Институт русской литературы АН СССР
(ИРЛИ), в так называемый Пушкинский Дом (назвав и весь роман
так), и сделал героя, по сути, шалопаем, но самым подающим
надежды в этом учёном доме. – Что за надежды? – Ну это
специальный вопрос, читатель. Сориентируйтесь по ненаучному опусу
героя, который повествователь вам бегло перескажет. Хорошо? А
остальные служащие там – то, что называется пустое место.
Вы ж должны, читатель, знать, работали ж где-то, всюду ж было
навалом таких пустышек. Договорились?
Впрочем, я не точен насчёт шалопая. Лишь главные фабульные признаки
– шалопайские: живёт герой с тремя женщинами одновременно, у
одной украл кольцо, морально предал отца и, будучи оставлен
дежурным по учреждению на праздник Октябрьской Революции,
допустил пьянку, затеял пьяный дебош в музейной комнате и
причинил ущерб экспонатам.
Но что-то невнятно говорит читателю, что не так всё топорно. И не
только потому, что прикрыто густейшей сетью умнющих
рассуждений. А тот факт, что вы, читатель – я не ошибусь – совсем
что-то не взволновались прочтённым, вызывает какое-то тёмное
подозрение, что автор настолько стеснялся того, зачем он роман
написал, что он натянул на него маску постмодернизма,
который, если одним словом, есть пофигизм (или другим –
кокетство).
Дескать, ну как пройти мимо нарождающейся моды на новый стиль.
Иллюстрация на обложке художников Плаксиных в одном из изданий
книги -
 |
это отсутствие людей, какие-то бледные тени вместо них, вернее,
плоские вырезки на несерьёзном голубом фоне – подпевает
притворству автора, что тут постмодернизм.
Надо ли разбирать сам текст с постмодернистской точки зрения? – Нет,
если он подозрителен как маска. Надо, наоборот,
неорганичность поверхности глубине вскрывать.
Признать, правда, надо, что одной из черт постмодернистского стиля
является намёк «на якобы существующую здесь тайну»
( http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/POSTMODERNIZM.html).
Но что если намёк – лишь намёк, а тайны нет у Битова?
Так вот мерещится, что не так уж ничтожен замысел его, как
представляет прикрытие.
И подозрение вызывает сугубо антисоветская заточенность книги при
постмодернистской слабости эмоций по этому поводу. Не так бы
злиться идейному врагу. Если уж восстание, то восстание. Если
уж скандал в день празднования Октябрьской революции, то
где суровые последствия для скандалистов? Так есть гнёт или
нет гнёта? Разгром в музее чуть не чудом устранён, и
спрятавший всё дебошир-виновник получает даже вознаграждение: водить
иностранца по Ленинграду. Всё как-то спущено на тормозах.
Невнятно.
Советская, мол, действительность послевоенная, не ориентирующая
молодого человека ни на что по-настоящему возвышенное,
естественным образом превращает его в обывателя. В как бы бумажную
вырезку схематического человека, по Плаксиным.
Например.
В романе мелькнула раз параллель герою-филологу – ещё более пустые
молодые его современники: стиляги. Повествователь, вроде, и
заступился за них перед дурацкой властью, но…
«Пусть они просто хотели нравиться своим тетёркам и фазанессам».
Так избави боже от такой понятливости. Впечатление, что
повествователь где-то в глубине души имеет идеал настоящего человека и
аж на него примеряет этих «борцов» с советскостью.
Да и героя, Лёву. И оттого, от такой примерки, они и Лёва
ничтожны.
Есть, мол, советскость и советскость. Были, мол, люди во время оно,
не то, что нынешнее племя. Это дядя Митя, дед –
репрессированные когда-то. Аристократы духа. Чьи фотографии во множестве
вставлены в упомянутое издание книги.
 |
Аристократы не по сословному признаку. Дядя Митя не только царский
офицер в первую мировую, но и красный командир в гражданскую.
Были ж аристократы, что-то находившие в Октябрьской
Революции. Тот же Александр Блок, например. (Вспоминаю о нём не
зря: им роман кончается.)
Правда, и на такое подозрение – в непостмодернизме – есть
теоретическая острастка: «По мнению Ильи Коляжного,
характерн[ая] особенност[ь] российского литературного постмодернизма –
«глумливое отношение к своему прошлому»» (там же).
По-моему, это нехорошая острастка. Она ж предполагает наличие
позитива в чём-то несоветском, досоветском, скажем, а
следовательно, в постсоветском. А какой же тогда это постмодернизм?
Постмодернизм же до степени Абсолюта доводит отсутствие
позитива, ценностей в мире аж.
Вот я и подозреваю Битова в тайном отказе доводить до Абсолюта. В
неком историзме подозреваю.
Может ли быть, что надежда у него на какие-то гены аристократизма,
не уничтоженные дурносоветскостью? Надежда на какое-то
сверхбудущее? – Это происхождение героя, эта фамилия – Одоевцев…
Эта наследственная – в третьем поколении! – специальность –
филология. Самое, мол, дело для новой аристократии вне
сословий. Эти неоднократные названия глав «Наследник». В одной из
глав он – д’Артаньян. В другой он – князь для Митишатьева,
его вечного товарища-чёрного-ангела-совратителя, разночинца,
влюблённого в неистребимый аристократизм героя.
Хоть это и пьяная речь Митишатьева, но… истина у пьяного на языке:
«Господи, да совести-то как раз у тебя нет! Потому что
остальные мелки, подлы, корыстны, расчётливы и знают об этом! У них
– совесть! Ты – над этим. Да если б от ума… Я всё разгадать
хотел, не от ума ли? Уважать так хотел, в такое беззаветное
ученичество вылиться, в служение и алтарь. Так нет, не
заслужил ты своих черт, своей верховности, не умом взял – вот
возмутительно! – природа у тебя такая <…> Я всегда выходец,
тебе всегда принадлежит <…> Ты думаешь, у примитивных силён
инстинкт – как раз у вас! Вы – высшая форма, вы – самые
приспособленные! Вы всегда выживете! Всё не своё отвергнете, всё
своё примете без благодарности, как должное! Не вы сознаёте
себя выше – мы` знаем разницу! – в этом наша сила. Но д о– с т
и ч ь ничего нельзя – в этом наша обречённость».
Я сразу насторожился, читая это… Плебеям – достижительность. А
патрициям, аристократам… духа – НЕдостижительность! Если русские
– богоизбранный народ, то потому и недостижительность ему!
Так можно было думать в позапрошлом веке. Когда народ ещё был
воцерковлен, а лучшая жизнь считалась христианами – на том
свете. А в веке XXI? (Битова вполне теперь можно счесть
пророком за то, что он почти в середине ХХ века предрёк –
словами своего героя, деда Лёвиного, – экологическую глобальную
катастрофу, что уже на носу нынче: «Человечество было
рождено бедным и немногочисленным. Таким оно вписывалось в
совершенный круг природы и бытия <…> Так вот, лет через десять,
когда все газеты станут писать как бы тревожно о том, что мы
делаем с природой, зарабатывая на жирной честности этой
темы <…> Принято, что человечество набрело на путь прогресса,
меж тем как оно с б р е л о со своего пути <…> Тогда задача
разума – успеть во что бы то ни стало, до критической точки
(необратимости) разорения Земли прогрессом…».) В почти
середине ХХ века недостижительность, как менталитет
российского народа, как наследство прошлого, становится залогом
будущего планеты. И воплощено в… недостижителях дорепрессивного
периода советской власти. И в их наследниках.
А вот это хапание женщин, хапание водки… что составляет фабулу
романа – есть то отвергаемое, ради отвергания чего – и написан
роман. (Битов, видимо, стал меняться к 1964-му, году начала
писания романа. Меняться по направлению к какому-то
обществизму, что ли.) Что если ему открылась великая истина в этом
каком-то нехапании? И он стал её разрабатывать на материале
женщин… Здесь. Потом в «Улетающем Монахове» (см. тут).
Смотрим, что здесь.
Фаина, самая мучительно любимая, для того сделана именно женщиной,
самой хапающей мужчин слева и справа. А удерживать какое-то
время её получается тоже только с помощью результатов тоже
какого-то хапания. Угощениями в ресторане. Украшениями. Для
нашего времени она героиня. С бандитскими или иначе дурными
деньгами новых русских и олигархов с миниолигархами.
А предприимчивость Лёвы: одолжить деньги у одного и не отдать, у
другой и не отдать, украсть у Фаины же кольцо и водить ту в
ресторан на деньги от его продажи, – всё это совершенно
несчастно выглядит к вящей славе недостижительности.
Для того сделано и то, как он женщин заполучает – посредством
запросто. Анекдотично – Фаину. Он думал, что она студентка иняза,
француженка. А он знал французский. И вот он её на
французском охмурял. А она его и не знала-то. Зато знала, что она
очень красивая и, безусловно, нравится. Он, сделано, был тоже
очень ничего себе. И одет. И речист. – И всё.
Давняя манера не описывать «обстоятельств, общественной
принадлежности, среды» (Чудаков) позволяет
повествователю отделываться схемой. И вас, читателя, это не провоцирует
на сочувствие, а ему того и надо, если он недостижительность
собрался воспевать.
Любовь – соответствующего типа: «колдовство, которое нельзя
вплести в ткань реальной жизни» (см. тут).
С её стороны, собственно, то же. Она объявлена (не описывается же)
всё возвращающейся к нему. И тянется это десяток лет и более.
То же со второй, с Альбиной. Тоже завоёвывать её не надо было. И
даже любить. Та сама его любит. И всё.
А с третьей, Любашей («Любимая, нелюбимая и любая…»), о
любви и речи нет. Удовлетворение желания, если случится, с
его стороны, и предоставление желаемого (всем, имеется в виду)
с её.
И всё – объективно позорно: жизнь с изменницей, жизнь с нелюбимой и
жизнь с любой. Особенно эта позорность объективно
проявляется в писании Лёвой структурных (а ля химия) формул,
выражающих их собравшееся за одним столом сообщество, связанное трёх–
и двухвалентной половой общностью: он, Митишатьев, муж
Альбины, Фаина, Альбина и Любаша. И никаких у вас эмоций (ибо
всё подано как бы сквозь какое-то когда-то воспоминание Лёвы,
вариантное к тому же по постмодернистски: было ли у кого с
кем, не было ли…). Ибо Лёве просто дано. Как Митишатьев
изрёк: «Ведь не имеет к тебе жизнь-то отношения!».
Но не просто всё – пофиг, как у постмодернизма. А всё заколдовано в
каком-то ожидании чего-то настоящего. Сверхбудущего.
И – по противоположности – для того, казалось бы, специальная главка
«Сфинкс*», что после последней главы, в которой проставлена
дата написания романа (где выведен под занавес… сам автор,
не повествователь). Главка как бы и не входящая в состав
романа. Но всё-таки. Название со звёздочкой. А в сноске –
привязка всё-таки к собственно тексту романа:
«Из главы «Бог есть». Последнее возвращение М.П. Одоевцева
[Лёвиного деда] к «запискам». Можно датировать по стихотворению
Блока не ранее 1921 г. – Л.О. (Примечание Лёвы. –
А.Б.)».
И в этой главке прозрение аристократичного деда, что:
«Революция не разрушит прошлое, она остановит его за своими
плечами». Оставит культурой прошлого среди бескультурья
настоящего! «Гибель – есть слава живого! Она есть граница
между культурой и жизнью <…> Народный художник Дантес отлил
Пушкина из своей пули». Хапание возводит культуру на
пьедестал непонятности (ибо культура – это непонятное). Революция
началась под флагом хапанья и сейчас хапанья – апогей. И,
значит, никакой преемственности:
«Но даже если слово <…> и может пережить собственную немоту
вплоть до возрождения феникса-смысла, то значит ли это, что его
отыщут в бумажной пыли, что его вообще станут искать в его
прежнем, хотя бы и истинном, значении, а не просто
произнесут заново?..».
И вот это уж действительно самые последние слова романа.
И, по противоположности, они-то и призваны навести на
противоположное – на преемственность!
Загляни, мол, читатель, обратно, в главу «Две прозы», на которую так
мутно (с перевиранием названия) отсылает сноска главы
«Сфинкс*».
Это как в финале «Гамлета». Полуубитый принц просит друга, Горацио,
не кончать с собой из-за мерзости этого мира, а рассказать
потомкам (пропала связь времён, но не сверхвремён!), что на
самом деле произошло в Эльсиноре. И Горацио соглашается. И
сверхбудущее оказывается обеспеченным.
Вот так и здесь. Этот Лёва Одоевцев ушёл, так и не поняв великий
смысл своего какого-то нехапающего хапания. И не завещав его
никому. Но! Он отдал рукопись «Сфинкс» автору (не
повествователю: повествователь так же прекратит существование с концом
романа, как и герой). И – последние слова собственно романа
такие:
«Но что это? Что это шуршит в кармане? Я забыл в нём те листки, что сунул мне Лёва на ступенях Пушкинского Дома».
Автор остаётся живым, как Горацио. И преемственность будет!
Сверхбудущее – обеспечено.
Обратимся же к главе «Две прозы». Там может быть секрет дороги в сверхбудущее.
Нет. Вернёмся к «Сфинксу».
Дело в том, что я ж давно заимел подозрение, зачем Битов роман
написал и зачем припудрил его, мол, постмодернистским стилем. И
то, к чему веду – я уж посмотрел те «Две прозы» – вряд ли
приведёт к признанию романа художественным. Там не
художественный смысл (не очень внятный самому автору, потому и не
удержавшемуся от писания). Там обнаружится его скрытый смысл,
стыдный от невнятности. Ну, может, это от невнятности всё же
художественность, но. Его можно будет процитировать. Что плохо.
А в «Сфинксе» от имени деда дан редкостный феномен осознавания дедом
нецитируемого у Блока.
«Что – Пушкина… Блока не понимают! Тот же И-лев с восторгом,
подмигивая и пенясь, совал мне его последние стихи.
Пушкин! Тайную свободу Пели мы вослед тебе! Дай нам руку в непогоду, Помоги в немой борьбе!
И-лев способен понять лишь намёк – так уж тонок; слов он – не
понимает. Он воспаляется от звуков «тайная
свобода-непогода-немая борьба», понимая их как запрещённые и произнесённые
вслух. А тут ещё «пели мы» – значит, и он… Он, видите ли, не
Пушкин лишь потому, что ему рот заткнули… Во-первых, никто не
затыкал, а во-вторых, вынь ему кляп изо рта – окажется
пустая дырка. Господи! Прости мне этот жалкий гнев. Значит, это
всё-таки стихи, раз их можно настолько не понимать, как
И-лев. Значит, эти стихи ещё будут жить в списках И-левых.
То и вселяет, и именно нынче (Блок всё-таки царь, назвав это лишь
«непогодой»), что связь обрублена навсегда <…> сзади –
пропасть, впереди – небытие, слева-справа – под локотки ведут… зато
небо над головой – свободно! О н и в него не посмотрят <…>
Зато я, может быть, в иных условиях, головы бы не поднял и
не узнал, что с в о б о д е н».
Речь о том, что Блок, принявший Октябрьскую Революцию и тем
возмутивший ницшеанцев, вроде Гиппиус и (вот, в романе) деда Лёвы,
не выдержал, по их мнению, противоречивости своего поступка,
после «Двенадцати» и «Скифов» (знаменовавших приятие
революции) написал лишь несколько слабых стихотворений и умер. И
перед нами отрывок из одного из этих слабых – «Пушкинскому
Дому» (1921). Вдруг дедом понятое как неслабое. Исходя из его
идеи об отсутствии преемственности.
И-лев, приспособленец, надеется на преемственность:
«Сказали бы, что это прежде всего великий памятник
литературы [Библия, по-видимому], что Екклезиаст – первый в
мире материалист и диалектик, – они бы и успокоились».
(Раз «не станут цацкаться», раз И-лев испуган, значит,
уже начались репрессии и уже с задубевшими догматиками имеют
дело спецы в Пушкинском Доме.)
И-лев стихотворение Блока (см. тут)
понимает, можно сказать, «в лоб». Ну разве что – как с
намёками (которые в принципе ж не устраняют восприятие «в лоб»;
у меня здесь упоительное совпадение насчёт художественности
как нецитируемости с дедом Лёвы и, в итоге, с самим
Битовым!). Ну, а раз смысл цитируем – пусть и через намёки – то
произведение не есть художественное.
А как толкует дед Лёвы? Он же «непогоду» понимает
наоборот! Не как нечто скоропроходящее, изменчивое, а как полный
конец, не допускающий культурной преемственности после себя, и
потому открывающий уж совершенную неожиданность:
«просто произнесут заново», что процитировать из Блока
невозможно. А в то же время из блоковского стихотворения –
следует. Из слов «Тайную свободу».
Ибо это ж, по словам Фомичёва, образец «точной
автохарактеристики пушкинской поэзии» из
продекабристского, а в то же время и любовного, пушкинского стихотворения
1818 года.
Любовь и тайная свобода Внушали сердцу гимн простой, И неподкупный голос мой Был эхо русского народа.
Формула деда «слов он – не понимает» замечательна тем,
что художественные слова-то надо понимать не впрямую, а
наоборот!
Контрреволюционер дед неожиданно для себя восхитился
прореволюционным Блоком, чего сам антисоветчик Битов, я боюсь, не ожидал от
своего героя. А может, и от Блока.
И это пленительно!
Ибо Блок-то не исписался, получается. А всё ж – в русле его
тёмной-претёмной работы «Крушение гуманизма» (1919). А там что?
Возрождением-де начался гуманизм, то есть индивидуализм. А к XIX
столетию стал выдыхаться под напором коллективизма (Блок
это духом музыки называет, и оттого не понятно). И вот это
новое – раз совершилась революция – и родит совершенно новое
искусство. Без преемственности.
Пропуская дней гнетущих Кратковременный обман, Прозревали дней грядущих Сине-розовый туман.
Совпал с контрреволюционным битовским дедом вновь впавший в
символизм Блок. То-то смеялся Луначарский, что символисты –
потенциально революционная сила. Ужаснувшись реалии революции, Блок
впал опять в её потенцию.
Причём, тут же тот вариант умонастроений деда, когда Бог – есть. Он
– вот это сверхбудущее. Ибо настоящее слишком дрянно:
«Существование на честности подлинных причин непосильно
теперь человеку». Бога нужно было б выдумать, если б Он не
был уже выдуман. Вот до чего довела, мол, революция
атеистов.
А был же и другой вариант дедовских записок. С названием «Бога нет».
В главе «Две прозы». – Вот и вернёмся теперь в ту главу,
наконец.
Нет. Ещё приостановимся на минуту.
Легко производить синтезирующий анализ художественного произведения.
В нём масса противоречивых пар элементов кричит об одном и
том же результате синтеза. Можно взять одну пару. Они ж –
элементы. Маленькие. И синтез – невелик. И всё вместе
компактно. Если и ещё пару элементов возьмёшь – опять небольшой
объём. И ещё. И потом уже и экстраполировать можешь на всё
произведение. Сходимостью анализа называется. И – читабельно всё.
И понимать легко (если легко).
А вот если разбираешь извивы мысли… И каждая ж мало что сложна – ещё
и длинна же…
Битов – интеллектуальный роман написал. Тяжело. И цитаты нужны громадные ж…
Или всё же не так: перечитывайте, товарищи, сам роман, перечитывайте
под тем углом зрения, что я предлагаю.
Итак.
Потребительское общество начало формироваться в СССР и на Западе
приблизительно в одно время, после первой мировой войны
(http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/MEN/ART/ART.HTM).
Дед Лёвы, наверно, его учуял до того, как попал под репрессию.
И успел восстать в своих записках. Но, уж не знаю зачем,
Битов намекает, что писаны они до той войны. Делая его
провидцем, Битов применяет слова своего времени. И смотрите, какие
это слова, относящиеся к достославной недостижительности. То
иронические, то похвальные (разбирайте сами, где какие).
Из «Бога нет»: «вполне имея от чего страдать, страдать не от
того», «что-нибудь непременно у тебя д о л ж н о быть»,
«как-нибудь и м е н н о так должно быть, кроме как е с т ь»,
«как-нибудь н а д о , чтоб было», «именно тебе должно даться то,
что никому не удалось», «толпа ложных идеалов», «чувство
необоснованной неполноценности», «Эта постоянная российская
озабоченность судьбой Пизанской башни», «ввести в сознание
доступность».
Из «Бог есть»: «не выступаю ли слугой прогресса, расширяя Сферу
Потребления ещё одним Новым Наименованием», «Чем и из Духа
извлекать «прок и пользу», так не лучше ли – не просвещать
потребителя?».
«Бога нет» критикует атеистов, материалистов за неудачи восполнения
материального идеальным. «Бог есть» опасается удачи такой
критики. И то, и то опошляет идеальное, что и есть плохо.
Этот высокого полёта отвергатель потребительства в итоге возмутился,
когда его, врага советской власти, разведшей
потребительство в стране, ублажили: реабилитация плюс двухкомнатная
квартира на краю Ленинграда и пенсия. А в Сибири у него была
работа умелого прораба и баба, бывшая уголовница, ей в большие
города нельзя.
Он там не хапал. А его оскорбили, сунув сюда в некое хапание.
И какая разница, что в угоду постмодернизму (неизвестно, мол,
ничего: ни что лучше, ни как именно умер дед и от чего умер как от
худшего), – какая разница, что сделал Битов вариантной
судьбу деда в состоянии реабилитации. Она любая оскорбила его
как непотребителя, и вернуться ему в прежнее состояние не
удалось.
И этот герой, скажем так, положительный получился у Битова.
А другой, уж безусловно положительный, репрессированный и
реабилитированный, дядя Митя, никогда не дал себе впасть в
потребительство. Хоть и дрожал над вещами, возвращёнными ему семьей
Одоевцевых, когда он вернулся из ссылки (он вещи им одолжил,
когда те обустраивали свою жизнь когда-то давно). Он жизнь
свою им отдал. Что уж вещи.
И его, дяди Мити, «другая» проза есть тоже «нет потребительству». На его уровне.
А всё один и тот же оказывается уровень по всему роману – как с
женщинами дела-то... Не хапает их дядя Митя в своих
автобиографических записках. И вот – положительный (да простится мне
этот примитивизм).
Книга построена так. 1-я часть – якобы объективная: как произошёл
такой дрянной Лёва, глядя извне его. 2-я часть – якобы
субъективная: как то же самое, глядя изнутри его. 3-я часть – что
он теперь, паршивец, творит. И отдельно – «Сфинкс». Даже в
оглавление не попавший. Есть, правда (даже и в оглавлении),
ещё Комментарии. При общем сомнамбулическом каком-то
повествовании чёрт знает, от чьего имени (то от повествователя, то от
дяди Мити, то от деда, то от автора), наличие Комментариев
ещё более запутывает картину. Но можно придраться, что это
всё-таки комментарии к тексту, а не текст, и вообще их не
читать, ибо я современник автора, и мне не нужны комментарии.
Тогда на месте сильной позиции (конца) оказывается «Сфинкс» с
вдруг Блоком.
А если представить, что, пометив это возвращением к концу 1-й части,
какому-то приставному, не Лёвиному и забывшемуся, – если
представить, что таким образом Битов добился, чтоб читатель
вернулся к этому концу 1-й части и перечитал его, то в сильную
позицию (конца) попадёт конец 1-й части с его Сферой
Потребления и Новым Наименованием с заглавными буквами (чего до
сих пор за Битовым не наблюдалось).
И тогда роман оказывается – о потребительстве, негативной реакцией
на которое является сам постмодернизм. Тогда роман
приобретает цельность. А называть постмодернизм прикрытием фэ
потребительству становится неудобно.
Но неудобно-то неудобно, однако ж, и оно само что-то значит…
Что?
Что очень мутная категория – недостижительность – в ранг идеала
возведена. Ведь посреди бушующей достижительности ж! Та –
понятна. Рациональна.
Рациональной, правда, становится и недостижительность перед самым
концом человечества (пусть он и смутно виделся в 60-х годах;
он и сейчас не для всех очевиден). Но совсем же не понято,
как с помощью недостижительности спастись. Заставить
отказаться от перепотребления? – Это ж время после хрущёвской
оттепели было. Только вздохнули, избавившись от культа Сталина.
Что: опять под ярмо? Вон, культ Хрущёва какой смех вызвал. Так
что силком – не годится. А как же тогда? Ведь сущая ж
маниловщина получается. Или символистский блоковский «сине-розовый
туман». Стыдно ж даже быть заподозрённым в таких мечтах.
Ну, а если видно ж всё-таки, что этак, по– прежнему, – впереди
конец всем… Что делать? Гуманитарная революция? А как
это?.. Поднять значение великой русской литературы от Пушкина до
Блока включительно, филологию поднять?..
Весь роман пронизан реминисценциями из школьной программы… Названия
разделов, глав: «Что делать?», «Отцы и дети», «Герой нашего
времени», «МБедный всадник», «Фаталист», «Маскарад»,
«Дуэль», «Выстрел»… Эпиграфы… Особенно два главных, относящихся ко
всему роману: «А вот то будет, что и нас не будет.
Пушкин, 1830 (проект эпиграфа к «Повестям Белкина»)» и
«Имя Пушкинского Дома / В Академии Наук! / Звук понятный и
знакомый, / Не пустой для сердца звук!.. Блок, 1921».
– Религиозная угроза Апокалипсисом и конструктивная
атеистическая отповедь бывшего (или возродившегося) символиста.
Сама генеральная линия взять местом действия Пушкинский Дом, музей,
собственно, оказывается не бунтарской относительно
советскости, а гуманитарно-революционной в каком-то архаичном,
традиционалистском духе. В прошлом – спасение! Не потому ли, –
вопреки постмодернистской вариантной неопределённости (было ж
или не было) без следа исчезли следы разрухи в музее. Новое
Возрождение… А не якобы постмодернизм.
В этом свете можно и рисунок Плаксиных на обложке пересмотреть. Там
же в клочья изорванная бумага кроме силуэтов. Долой силуэты!
Тогда уже и отодвинутость силуэтов строчками из изорванного
черновика какого-то можно толковать смутно-оптимистически…
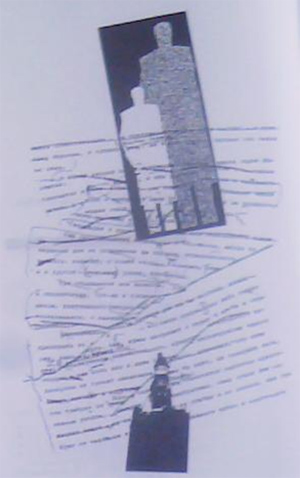 |
Что там напечатано в тех исчёрканных строчках?
«жизнь повествования – на протяжении [двух] (?) частей – в
прошлом, и прошлое это нашего героя не […] потому что герой не
стар.
К концу второй части положение […]ашего героя достигает […] и оба
[времени] (?) прошлое и настоящее сливаются в одно время […]
Герой уже яс[…]ременной жизни […]чески, и тут-то насту[пае]т
слом р[…]е не прошлого – […]пают собы[…] ящего времени
[…]«Репутация и пос[…] эта внезапность давно […]Наш герой
случайно оказывается в положении, когда от [не…]вершения или не
совершения им поступка, определённого […]венного, зависит, с
одной стороны […] честь со[…] а с другой – карьера, успех,
благополучие.
Тут обнажается вся мнимость, усл[…] и спокойствия. Тут-то и
проверяе[…] имени, полученного скорее им[…] испорченного[…]
Обстоятельс[…] времени уже не так жестоки, чтобы требовать от г[…]
его точке непременно либо злодеяния, либо […]двига. Нет,
время поступает с герое[м] и мягче и страшнее; в[…] совершение
положительного, нравств[…] а несовершение такого ступка уже
есть зло и даже […]дея того, возможно, это даже поступка не
грозит наказание […] Но зато, не совершив того, более выгодно
в карьерн[…] что требует от него сов[…] человек становится
навсегда нравственным уродом, изменения необратимы. Наше
время уже не[…] хватит людей лишь за[…] не убийцы и не злодеи,
оно требует от человека я[…]тивного добра и
настоящего»
Стесняются и художники и автор провозглашения наступления нового
времени какого-то.
Это не постмодернизм – надежда.
Убивать 5 миллиардов, чтоб выжил золотой миллиард, не предполагается.
В уме. А в жизни – чёрт его знает. И поэтому очень стыдно. И – весь
роман оправданно есть сама постмодернистская растерянность.
Но произведение ли искусства тогда он, если какая-то
надежда-растерянность им выражена? Что-то совсем же неопределённое… Совсем
не как у Блока, хоть и там неопределённое – но не
растерянное же! Может ли быть искусство, когда нет идеала?
Битов сам, наверно, терялся в этом. И, пожалуй, прекрасно чувствовал
то же самое в Тютчеве (и верно: см. тут). Тот же тоже
метался по, так сказать, мировоззрениям, отдаваясь целиком
каждому. Но какому в итоге? – Вопрос.
Такой Тютчев и в самом деле антипод не только Пушкину, никогда на
сколько-нибудь длительное время не отдававшемуся отчаянию
абсолютного безверия, но и мрачному Лермонтову, раз и навсегда
улетевшему в сверхбудущее.
Погрязшему в гонке за женщинами Лёве было ещё не с руки постичь
такой расклад между тремя гениями. И он их понял как
конкурентов, как достижителей славы. На щите (Пушкин) или под щитом
(Лермонтов) – смерть и не дожил до славы… Или со щитом
(Тютчев), только тем и взявшим, что мастерством.
Но главный вопрос, художественен ли он!?
«В двадцать семь умирают люди, и начинают жить их тени, пусть
под теми же фамилиями <…> решается всё, вся дальнейшая судьба
души. Поэтому-то и обратились к одному и тому же
[теме Пророка] все три гения и все трое ответили
по-разному. Они все спорили с первым, с Пушкиным. Тютчев даже
злобствовал <…> Хотя он и раньше Лермонтова (ему раньше двадцать
семь), но он – позже, он ближе к нам, он современней. Тоже
утеряв из виду ориентир и целое здание, он не расплакался, как
Лермонтов, без бабушки, а тщательно, глубоко присмотрелся <…>
Пушкин ещё не знал такой пристальности <…> Это мы уже,
спустя признаём, а тогда – нет, как и Лермонтову, не досталось
сразу – но иначе, злобней, мелочней, реагирует Тютчев
<…>
И шестикрылый серафим На перепутье мне явился;
Там в беззаботности весёлой Безумье жалкое живёт.
<…> И никогда не ощутил бы он этой обиды, если бы не было
рядом, бок о бок, затмевающего и опровергающего всякую логику <…>
примера для сравнения – Пушкин! <…> но Пушкин не видел его
со спины, а всё спина Пушкина маячила <…> И Тютчев знал <…>
что у него нет одной «маленькой вещи» <…> А Пушкину и знать
не нужно было <…> раз у него было <…> Тютчев – уже
разночинней, он х о т е л, чтобы у него было, но у него не было <…> и
он пишет «Безумие» – с образом Пушкина – шамана».
Таковы обстоятельства для главного вопроса: художественность ли мастерство:
«Пушкин отражал мир <…> Лермонтов отражает себя <…> Тютчев,
более обоих искусный, – с к р ы в а е т <…> он, такой всем
владеющий, не выражает себя, а сам оказывается выраженным <…>
Только откровенность – неуловима и невидима, она – поэзия,
неоткровенность, самая искусная – зрима, это печать, каинова
печать мастерства, кстати, близкого и современного нам по
духу».
Битов же о себе, о своём романе во всеуслышание кричит! Прикрылся он
постмодернизмом? Ведь видно же! Как видно оказалось в
рисунке Плаксиных. Как ни исчёрканы были строчки, как ни изрезан
лист, как ни перемешаны кусочки, а видно же, что там
написано.
Постмодернистские иные книги с несшитыми листами издают, читайте,
мол, как заблагорассудится, всё равно правды нету. А тут же…
Как ни искромсано, ни перепутано – всё равно видно, что
«Наше время уже не». То есть считается, что не только
затишье с тоталитарными репрессиями в СССР, но и мир во всём
мире при всей холодной войне между двумя системами. И
видится какая-то возможность мирной недостижительности
«выгодно в карьерн», спасительной от «изменения
необратимы» из-за потребительской ли, военной или
конкурентной гонки.
Глазами буквы видятся, а смысла-то нет: как же это всё же от
конкуренции-то к недостижительности и спасению?! Невелика
невнятность. Немногим превзошли хиппи, этих «в лоб» отказавшихся от
богатства оборванцев, детей состоятельных родителей. Нет
настоящего открытия-нецитируемости. Нет искусства. И никакая
искренность не помогает дяде Мите стать писателем. Разночинцу
Митишатьеву – аристократичным Лёвой. Лёве – толкователем
якобы гениальности Тютчева. А Тютчеву, что
«разночинней» – гениальным (аристократичным), как Пушкин.
А Битов?
Может, всё-таки это художественность – взять такую ерунду, как
постмодернизм, чтоб выразить им такой белибердовый свой идеал,
как недостижительность, упрятанную (всё равно обнаружат, не
то, что обратный смысл лежащего на виду посмодернизма) в конец
первой части. Ну или в подлинный конец – претензией быть
Блоком своего времени.
24 июля 2010 г.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

