Вячеслав Шевченко. Театрон.
Аннотация. Внешний мир мы видим
глазами, но как мы видим мир «внутренний»? «Внутренним оком»? «Умным зрением»?
Но что оно такое? Куда (и откуда) на самом деле человек смотрит, когда думает,
будто смотрит в себя? В этом не разобраться, не вспомнив историю театра.
Даже же опытные наблюдатели
терялись при попытке
объяснить, что происходит в их умах, когда они мыслят. Р. Арнхейм[1]
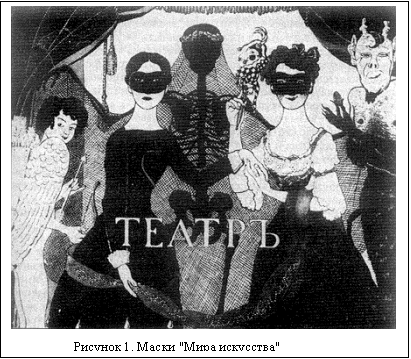 В сочинении
«Об уме» Ипполит Тэн сравнивает «рассудок
человека с театральной сценой неопределенных
размеров, рампа которой очень узка, но сцена, начиная от рампы, расширяется.
Перед этой освещенной сценой есть место лишь для одного актера. Далее, на
разных планах сцены, находятся различные группы, которые тем менее отчетливы,
чем дальше они от рампы. Еще дальше этих групп, в кулисах и на далеком заднем
плане, находится множество темных форм, которые иногда внезапный вызов выводит
на сцену или даже к огням рампы. Этот муравейник актеров всех разрядов всегда
в каком-то брожении, которое выдвигает корифеев, поочередно появляющихся перед
нами как бы в волшебном фонаре»
[2]
. Сравнение выглядит совершенно естественным. А как
же иначе? Видеть что-то значит видеть сцену: «фигуру» на «фоне».
В сочинении
«Об уме» Ипполит Тэн сравнивает «рассудок
человека с театральной сценой неопределенных
размеров, рампа которой очень узка, но сцена, начиная от рампы, расширяется.
Перед этой освещенной сценой есть место лишь для одного актера. Далее, на
разных планах сцены, находятся различные группы, которые тем менее отчетливы,
чем дальше они от рампы. Еще дальше этих групп, в кулисах и на далеком заднем
плане, находится множество темных форм, которые иногда внезапный вызов выводит
на сцену или даже к огням рампы. Этот муравейник актеров всех разрядов всегда
в каком-то брожении, которое выдвигает корифеев, поочередно появляющихся перед
нами как бы в волшебном фонаре»
[2]
. Сравнение выглядит совершенно естественным. А как
же иначе? Видеть что-то значит видеть сцену: «фигуру» на «фоне».
Но исторически сцена меняется. Тэн описывает устройство театра 19 века
и лишь упоминает о «волшебном фонаре», едва наметившемся на его исходе. Так ли
выглядит «внутренний мир» нашего современника, предпочитающего сцене экран, или
человека средневековья, когда театральных строений не было, или в античности –
с иным, чем у нас, устроением сцены, или до античности – в отсутствие
собственно театра? Современный театр изобрели греки – это одна из ослепительных
граней «греческого чуда». Значит ли это, что они впервые открыли вид на
«внутреннего» человека?
«В слове
«театр» – theatron
– имеем корень thea от глагола theaomaj, что значит «смотрю» и
окончание tron . Окончание tron для среднего рода и tros для
мужского всегда определяет действенное истолкование корневого смысла (...)
Отсюда, theatron – это
то, чем смотрят, орудие созерцания, то есть, например, глаза, подзорная
труба, пенсне, бинокль; распространеннее – место, с которого смотрят, то есть
по современным нам понятиям, – партер,
ложи, словом, зрительный зал с наполняющей его публикой»[3]
Если это так, то слово «театрон» к глазу не применимо: это орган
коллективного, публичного, социального зрения, оптически отличный от глаза.
Сегодня, как и в классической Греции, театроведы называют театроном устройство,
собирающее зрителей[4].
Самым типичным для Древней Греции считается театр Диониса, одним из первых
построенный в Афинах в 6 веке до н.э. близ его храма (рис.2а). «Напротив амфитеатра, позади круглой
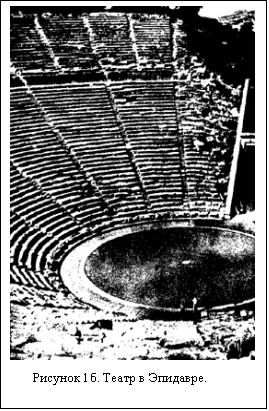
сценической площадки – орхестры – возвышается каменная
постройка, называемая скенэ. Первоначально скенэ отводилась роль подсобного
помещения для переодевания актеров и хранения различных аксессуаров. Затем
размеры скенэ вырастают, и перед ее фасадом появляется высокий помост –
проскений – который постепенно превращается в площадку для игры актеров»[5].
А
самый совершенный театр эллинизма был построен Поликлетом (младшим) в Эпидавре
(рис.2б). Его орхестра совершенно кругла, как арена цирка или стадиона.
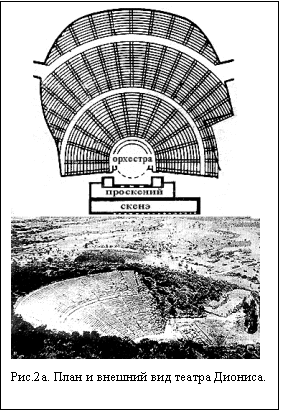 Выделим главное. Театр античности – это амфитеатр
зрителей, возвышающийся над круглой (или почти круглой) ареной – орхестрой
[6]
. Таковы основные части театра – его полюса.
Проскений и пароды появляются позже, когда действие, разрастаясь, постепенно
переносится с арены на сцену. А изначально театр – это круг орхестры, окруженный
кругом амфитеатра. В центре орхестры располагается жертвенник –
алтарь Диониса.
Выделим главное. Театр античности – это амфитеатр
зрителей, возвышающийся над круглой (или почти круглой) ареной – орхестрой
[6]
. Таковы основные части театра – его полюса.
Проскений и пароды появляются позже, когда действие, разрастаясь, постепенно
переносится с арены на сцену. А изначально театр – это круг орхестры, окруженный
кругом амфитеатра. В центре орхестры располагается жертвенник –
алтарь Диониса.
Такова оптическая
форма, изобретенная греками, чтобы собрать зрение десятков тысяч людей
(населения города-государства) на одном человеке[7].
Сегодня мировым телевиденьем социальная оптика утверждается в планетарном
масштабе: внимание уже не одного города, а города всех городов – мегаполиса
человечества – фокусируется на одном событии. Спрашивается, что это за форма?
Театр опредмечивает социальное зрение. Те, кто приписывают социуму
собственную реальность, испытывают естественные трудности, пытаясь ее
вообразить. Изображая государство гигантским Левиафаном, грешат
антропоморфизмом. Но как представить себе существо, способное распыляться на
индивиды и принимать на их множествах все мыслимые и немыслимые фигуры? Самую
четкую, почти кристаллическую структуру, превосходящую своей регулярностью
военные построения, социум принял в античном театре.
Театр Диониса вмещал 30 тысяч пар глаз, а Колизей и поболе. Чтобы вообразить
подобное оптическое тело, нужно все точки амфитеатра оснастить глазами,
обращенными к его центру, а все пространство театрона – заполнить зрительными
лучами, сгущающимися в фокусе сцены – «горящей точке» материи. Это единое
световое тело и есть прообраз формы, в какой античному человеку явилась его
истина.
Грандиозные зрелища знали все цивилизации. Однако театр как ближнего,
так и дальнего Востока оставался зрелищем процессий, подмостков и площадей.
Только Эллада погрузила сакральное зрелище в совершенную архитектурную форму.
По Аристотелю, трагедия отличается от прочих видов искусства своим
особым предметом – она изображает действие. «А так как подражание производится в действии, то по необходимости
первою частью трагедии будет убранство зрелища, затем музыкальная часть и
\затем\ речь»[8]. Именно
наличие двух первых частей возвышает трагедию над архаическим эпосом. Однако по
степени важности части трагедии трактуются «Поэтикой» в обратном порядке.
Больше всего занимается Аристотель сказанием, «складом событий», собственно
речью и менее всего – зрелищем, которое «хоть
и сильно волнует душу, но чуждо искусству и наименее свойственно поэзии»[9].
Театр отражает мир не только действием, происходящим на сцене, но также своей формой. И прежде всего своей пространственной, геометрической структурой. Однако Аристотель, увы, ее не заметил. В «Поэтике», дотошно исследовавшей все аспекты театра, нет ни слова о его архитектурном решении – уникальном нововведении эллинов. Но форма, если она не осознается, не перестает действовать.
Признано, что античная культура – это прежде всего культура зрения. «Известный архитектор Х1Х века Виолле де Дюк
говорил, что чувство зрения доставляло грекам такие радости, которые нам теперь
неизвестны. Можно предполагать, что гармонию форм они воспринимали столь же
непосредственно, как музыкальные люди воспринимают гармонию звуков. Греки имели
как бы «абсолютное» зрение»[10].
Действительно, случаен ли исключительный интерес Эллады к физическому
аппарату зрения? Одноглазый Циклон, тысячеокий Аргус, всевидящий Гелиос –
воображение одолевает физические определения глаза, словно пытаясь прорваться
сквозь их пределы к какому-то «абсолютному», совершенному зрению. И, кажется, в
театре этот прорыв действительно осуществился. Пусть Эдип, прозревая к страшной
истине, в отчаянии ослепляет себя – зрителю «Эдипа» он открывает внутреннее
зрение.
Совершенное, то есть божественное, зрение человек Эллады мыслил
круговым – всесторонним. Не потому ли, что человек открытого
пространства ощущает себя всесторонне зримым? Таково самоощущение современного
человека в лесу, особо у ночного костра. Тем более острым оно должно быть у
эллина, для которого духи еще так же реальны, как звери: присутствие целого –
божественное зрение – он ощущает рассеянным окрест себя. Окружающее не только
зримо, но и зряче – по взаимности виденья[11].
Но всесторонности требует всякое зрелище. Уличное происшествие
стягивает зевак совершенной круговой формой – словно магнит выправляет
металлические опилки. Такова геометрия, раскрывающая смысл общезначимого
события. Равное отношение зрящих к зримому обеспечивает только окружность.
Другое дело, что в своей
полноте предмет зрения раскрывается лишь всем видящим, и никому в отдельности.
Если видящий один, он либо обходит предмет вокруг, либо (если предмет мал)
вращает его в руках. Односторонность обычного зрения компенсируется его
круговым движением. «Созерцание» на языке Эллады этимологически близко
«осматриванию». Платон созерцал Землю всем многоочитым небом и само мышление
трактовал как подражание вращению светил. Читатель Аристотеля может видеть этот
метод в действии. Что поражает в нем, так это именно всесторонность: детальное
до педантизма исследование всех аспектов всякого вопроса – и
часто таких, какие по логической тонкости уже не различаются современным умом.
Изучая «умный предмет», философ словно вращает вазу.
Притом не замечается ни малейшей, столь привычной для нас, потребности
проникнуть взором «внутрь» предмета – все внимание собирается на его зримой
поверхности[12]. Античная
архитектура воздействует на зрителя только внешним видом, классическая живопись
Эллады не знает изображений интерьера, а театральное действие никогда не
изображается происходящим внутри закрытого помещения. «Внутреннее» вещей не
проницается, а развертывается кругом.
Итак, античный амфитеатр использует простейшую, «первородную» форму
собрания-зрелища, но доводит ее до предельного совершенства: это монумент,
возносящий зрителей своим космическим строем до олимпийских высот. О том, как
античный театр помещает зрителя в оптику «божественного ока», хорошо сказано у
Г. Гачева. «Мироздание театра имеет свое
небо и землю. Полукружье амфитеатра небосводом обнимает и покрывает земную
площадку, на которой выпало сыграть свою жизнь людям-актерам. Амфитеатр волнами
вздымается ввысь – в театре пространства; зал ярусами уходит под купол – в
театре помещения. В обоих случаях зрители, как бы с небес, взирают на комедию
человеческой жизни. Зал смотрит на сцену, как поистине тысячеглазый Аргус –
образ, в котором древние греки представляли звездное небо»[13]. Сама архитектура театра помещает зрителя в
ситуацию небожителя: он воспринимает в амфитеатре ту самую форму, что видит на
небе – чаша зала отражает купол небес. Вызывая бога на арену театра, он вольно
или невольно взирает свысока на того, пред кем унижается в храме. Это самая
возвышенная точка зрения на мир, доступная античному человеку: она ставит его
над миром и возносит выше богов[14].
Но такова ли ситуация актера? Если амфитеатром зритель астрономически отдаляется от жизненных коллизий, то актер, напротив, ввергается в саму их пучину. Он видит ту же вселенную, всю вселенную, но только предельно сжатую, стянутую, собранную всеми энергиями на нем. И притом в двояком смысле. На нем сжимается дионисийское кольцо «страстей», издревле терзающих человека – изживаемое в трагедии содержимое самой мистерии. Но на нем фокусируется также циклопическое зрение полиса[15].
Пришед из ближних, дальних стран,
Шумя,
как смутный океан,
Над
рядом ряд сидят народы.
И
движутся, как в бурю лес,
Людьми
кипящи переходы,
Всходя
до синевы небес[16].
Человек сцены
ощущает себя на дне, в средоточии человеческой вселенной, в глубине мировой
чаши, исполненной одновременно и зрением океана «народов», и кипением
вселенских стихий[17].
Что до драматурга-поэта, то он сочетает в себе божественную и
человеческую точки зрения на мир. Да, театрон – это зрение полиса,
интегрирующее его чашей амфитеатра: зрителю отдается лишь его частица. Но
драматург имеет дело с самим интегралом – он помещает себя во всесторонне зримое
световое тело. В отличие от зрителя и даже актера, в общении с «музами» он
прямо причастен божественному зрению. Взглянем поэтому на театр с другой
стороны – со стороны действия, учреждаемого драматургом на сцене.
«Трагедия в ее истоках …
была … разыгрываемым на сцене богослужением» (Хейзинга). Античная
трагедия вышла из хора поющих танцоров в масках. «Самая древняя
драматическая форма церемонии выражалась в речитативе запевалы, прерываемого
хором. С того момента, когда хору стал отвечать один, а затем несколько
протагонистов, драматическая форма (диалог) становится нормой и хор выступает
лишь в роли комментатора (предупреждения, совета, мольбы)». Хор трагедии
состоял из 12 хоревтов, включая предводителя – корифея, – и вписывался
квадратом в окружность орхестры. Хор видит действие (а также его прошлое и
будущее[18]),
комментирует его, сострадает герою, но не вправе вмешаться в события[19].
Функция хора доныне остается дискуссионной[20].
На вопрос о его назначении теоретики театра отвечают цитатами из Гегеля (обобщение
ситуации на сцене), А. Шлегеля (проектирование идеального зрителя) или Шиллера
(обеспеченье творческой свободы драматурга) – несмотря на критику Ницше: по
нему, так хор представляет собой дионисийскую, исходную, единственно подлинную
реальность, порождающую античную сцену как чисто аполлонический фантом.
Шеллинг увидел в хоре греческой трагедии «лучшее и вдохновеннейшее изобретение возвышеннейшего искусства», обратив
особое внимание на символическую функцию хора. Во-первых, это множество лиц, «представляющих, однако, только о д н о
лицо». Во-вторых, это лицо, которое, пребывая на сцене, не участвует
в действии. Посредничая между актером и зрителем, хор «не выдает их друг другу». По Шеллингу, он призван «отнять у зрителя его переживания», чтобы
сосредоточить его внимание на смысле действия. Ибо «хор в известном отношении есть объективированная мысль самих зрителей»[21].
«Наиболее значительная функция хора – объективированная и персонифицированная
рефлексия, сопровождающая действие».
Современная теория театра рассматривает хор как «эпическое средство», выполняющее «функцию остранения, как бы воплощая на глазах у зрителя некоторого
другого зрителя-судью, уполномоченного комментировать действие…». «В наиболее общем виде хор представляет
собирательные, нередко абстрактные силы, воплощающие высшие нравственные или
политические интересы»[22].
Итак,
актер (духовидец) действует. Хор видит действие, сострадает ему, но
бездействует. Зритель бездействует и безмолвствует – созерцает. Действие («драма» по-гречески) комментируется на самой
сцене и рассматривается с высот амфитеатра. Функции человека в мире
разделяются. Актер переживает мир, хор сопереживает ему, а зритель испытывает
катарсис – «очищение». Оказывается, чтобы возродиться в ритуальном действе, не
обязательно в нем участвовать – достаточно видеть. Это величайшее эстетическое
открытие – открытие самой эстетики. Открытие созерцательного отношения к миру –
новой, «теоретической» разновидности человека – смертельного антагониста Ницше.
Не случайно «театр» и «теория» имеют общий корень в слове, означающем зрение.
Действие
становится зримым, когда оно охватывается амфитеатром. В видимое вводится
видящее, когда на орхестре размещается бездействующий, призванный лишь к
комментариям, хор. Не в том ли разгадка античного театра? Перед нами, как
заметил Шеллинг, рефлексивная форма.
Воплощение рефлексии он видел, однако, только в хоре. Но так ли это?
Рефлексия,
по определению,– это форма, в какой сознание обращается на само себя[23]. «Философская
энциклопедия» сообщает, следуя, видимо, Ницше, что «проблема рефлексии возникла
только у Сократа». Это не вполне соответствует другому положению той же
работы. «Мышление
может сделать себя предметом теоретического анализа только в том случае, если
оно опредмечено в реальных, предметных формах, то есть вынесено вовне и может
относиться к самому себе опосредованно». Но
разве размышление о Судьбе –
исконное призвание трагедии – не есть мышление? Судьба на сцене не
столько переживается, сколько созерцается (в порядке идеализирующего опыта) – а
это уже «теория». Это уже вызов Ницше и всем прочим искателям истины эшафота –
демонстрация того, как можно постигнуть страдание, не переживая его.
«У Аристотеля рефлексия
рассматривается как атрибут божественного разума, который в своей чистой теоретической
деятельности полагает себя в качестве предмета и тем самым обнаруживает
единство предмета знания и знания,
мыслимого и мысли…»[24].
Возьмем
разум так, как он воплотился в полисе – как божественный. Как этот разум мог
познать себя, сделать себя объектом предметной рефлексии, если не в театре, где
он охватывает себя самого, превышая переживание созерцанием – способом,
изложенным у Аристотеля? Разве Аристотель не описывает, по еще горячим следам,
событие, что едва свершилось[25]?
Театр – это рефлексия полиса, а не хора[26].
Историков
культуры хор интригует как ценность, какую мы не сумели унаследовать: не потому
ли наш театр столь беден, что мы не поняли его функцию? Однако смысл ситуации
меняется, если соотносить античный театр не с последующими, а с предшествующими
ему формами – с пратеатром. Тогда хор оказывается просто реликтом хореи,
изначально обреченным на вымирание.
В самом
деле, между первобытной хореей и античной трагедией – десятки тысяч лет
эволюции, включающей развитие великих восточных цивилизаций. Собственно ритуал
давно отделился от хореи и пластически оформился в храмовом жреческом культе.
За это время хорея, в порядке рефлексии, успела выделить из себя словесность и
прочие виды «мусического» искусства,
предводителем коих в Греции стал Аполлон, а также «технические» (изобразительные,
пластические, ремесленные) искусства под водительством Гефеста и Афины Паллады.
Эти ветви успели разойтись так далеко, что греки долго не видели между ними
никакой связи[27]. Сама же
хорея продолжала жить в мистериях и в погребальных обрядах. Из оплакивания,
чьей энергией живет покойный, и возникают собственно мистерии – повествования о
смертной участи человека.
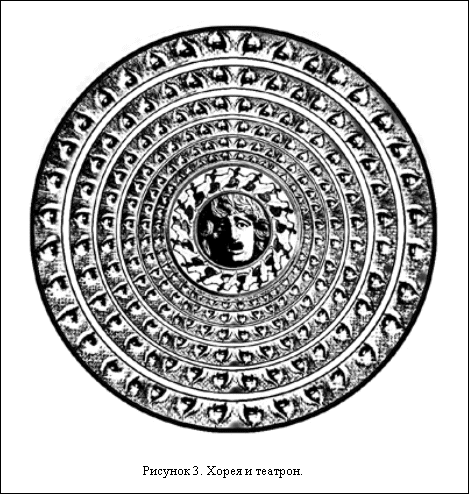
Мистерия
Диониса (дионисия) идет от восточных цивилизаций: от «Страстей» Озириса в
Древнем Египте, Изиды в Вавилонии, Адониса в Финикии, имея предметом
центральную антиномию сознания – непримиримость жизни и смерти. Это религия,
находящая обет возрождения в «круговороте» природы, переходящем в мир человека
круговращением жизни и смерти. Диониса недаром называли «дендритом». В
посвященных ему ритуалах «его
сопровождали менады с бубнами, плющом или змеями в волосах; сатиры – полулюди с
козьим хвостом и лошадиными ушами, нимфы, музыканты и танцоры. Празднование
дионисий сопровождалось круговой пляской участников в вывороченных шерстью
наружу козлиных шкурах. Певцы приставляли к себе козлиные рога, делали бороду
из дубовых листьев, а голову покрывали венком из плюща, изображая таким образом
козлоногих сатиров – спутников Диониса»[28].
Собственно трагедия, сообщает Аристотель, родилась из дифирамба – хвалебной песни Дионису. Дифирамб
возвращает поэзию в стихию хореи. Она выделяет корифея (будущего актера[29])
отнюдь не для изображения действий, а
для рассказа о страстях Диониса.
Корифей рассказывает, а хор показывает – отражает слово пением,
инструментальной музыкой и в круговой пляской, отчего дифирамб и назывался
«циклической» поэзией.
Рассказчика-актера, дополнительно к корифею с хором, ввел только Феспис
в Афинах. Это и знаменовало переход дифирамба в трагедию. Теперь дионисию можно
записать: трагедия – это запись дифирамба как центрального действия
мистерии[30].
Но трагедия – это также оживающий текст – слово, возвращающееся к своим
мусическим истокам, чтобы овладеть их стихией. До тех пор, пока актер был
одним, трагедия не столько показывалась, сколько рассказывалась: чтобы
изобразить конфликт, требуются как минимум двое.
В первых трагедиях (в том числе у раннего Эсхила) хор оставался главным
действующим лицом, и еще у Софокла он активно участвовал в действии. Он первым
появлялся на сцене и последним ее покидал – все происходило «внутри» хора. Тем
не менее со временем его роль неуклонно слабела. Сама сатировская, собственно
дионисийская, карнавальная тема постепенно вытесняется из трагедии и
заключается в рамки довеска к трилогии – в качестве «сатировской драмы»,
«веселой трагедии».
Функция хора была бы проблематичной, будь он действительно театральным
нововведением, если бы, скажем, поначалу на сцене действовал только актер, а
затем к нему добавлялся хор. Тогда бы мы были вправе, подобно Шеллингу,
рассматривать хор как «гениальное изобретение» греков. На самом деле все
происходило в обратном порядке: новым стало вторжение в хорею актера – слова[31].
Хор – это продукт распада хореи, в
процессе которого она расщепилась на разумное ядро, несущее слово, и
чувствительную (мусическую) оболочку. Корифей и хор не противостоят, а
дополняют друг друга – это носители одной точки зрения, но выраженной
различными средствами: рассказом и показом. В центр помещается животрепещущее
слово, оно отражается стенающим хором, чтобы остыть на периферии архитектурой.
А далее мусическое подражание космосу вытесняется пластическим – все слышное
полнится зримым.
Так что же
такое тогда драматург? Перед нами, сдается, первый человек, который сам с
собой разговаривает. Задавая вопросы, он, предвосхищая хор, сам на них отвечает
и притом рассчитывает на понимание зрителей. А с кем же еще разговаривать
человеку архаики, имеющему об «автокоммуникации» лишь начальные представления?
Может ли он увидеть себя иначе, чем отраженным в коллективном сознании? Первый
драматург, он же единственный актер, пишет текст не только для себя, но и для
хора. Он не может этого сделать, не раздвоившись в себе на существо
диалогическое – единичное и соборное сразу. Если в нем не откроется внутреннее
зрение. «Лишь
поскольку гений в акте художественного порождения сливается с тем
Первохудожником мира, он и знает кое-что о вечной сущности искусства, ибо в
этом последнем состоянии он чудесным образом уподобляется жуткому образу
сказки, умеющему оборачивать глаза и смотреть на самого себя; теперь он в одно
и то же время поэт, актер и зритель»[32].
Иначе говоря, только в драматурге продолжает жить сам
принцип хореи – принцип неразличенности зрящего со зримым.
Социуму
открывается энергия свободной личности. Но атом города не может стать
свободным, не отразив в себя его космос.
Итак,
античный театр – это (наиболее полная, тотальная) рефлексия полиса,
предметная форма его самосознания. Хоровод, ставший объектом созерцания. То,
что было некогда целым, стало частью нового, объемлющего целого – всего лишь
«пещерой» мира. Прежний мир заключается в раму сцены и видится вчуже. Пляшущие
у жертвенного костра рассматриваются сверху – дионисийское (вопреки Ницше)
погружается в аполлоновскую световую форму. Так души смотрят с высоты на
ими брошенное тело. Точнее, – в антропологической схеме театра, –
смотрит дух, а душу, сопереживающую телу, изображает хор.
![]()
 Для Ницше
аполлоновские светлые отражения – лишь
плоская проекция глубинного и темного
дионисийского мифа. Поняв это, «мы
переживаем внезапно феномен, стоящий в
обратном отношении к одному известному оптическому явлению. Когда после смелой
попытки взглянуть на солнце мы, ослепленные, отвращаем взор, то, подобно
целебному средству, перед нашими глазами возникают темные пятна; наоборот,
явление световых образов – короче, аполлоническая маска – есть необходимое
порождение взгляда, брошенного в страшные глубины природы, как бы сияющие
пятна, исцеляющие взор, измученный ужасами ночи». Аполлоновское – это всего
лишь брошенный на темную стену
послеобраз Солнца. Образ
по-ницшеански великолепен, но почему он вывернут наизнанку? История пратеатра
говорит об обратном – об изживании дионисийского в Аполлоне, о высвечивании
тьмы, о сгущении «силы» в «образ». Мы видим, что аполлоновский амфитеатр
охватывает дионисийскую орхестру, как форма охватывает свое содержание.
Для Ницше
аполлоновские светлые отражения – лишь
плоская проекция глубинного и темного
дионисийского мифа. Поняв это, «мы
переживаем внезапно феномен, стоящий в
обратном отношении к одному известному оптическому явлению. Когда после смелой
попытки взглянуть на солнце мы, ослепленные, отвращаем взор, то, подобно
целебному средству, перед нашими глазами возникают темные пятна; наоборот,
явление световых образов – короче, аполлоническая маска – есть необходимое
порождение взгляда, брошенного в страшные глубины природы, как бы сияющие
пятна, исцеляющие взор, измученный ужасами ночи». Аполлоновское – это всего
лишь брошенный на темную стену
послеобраз Солнца. Образ
по-ницшеански великолепен, но почему он вывернут наизнанку? История пратеатра
говорит об обратном – об изживании дионисийского в Аполлоне, о высвечивании
тьмы, о сгущении «силы» в «образ». Мы видим, что аполлоновский амфитеатр
охватывает дионисийскую орхестру, как форма охватывает свое содержание.
Театр – это средство разложения родового сознания внутри государства –
об этом говорит его архитектурная форма[33].
В трагедии, сталкивающей законы рода и города, впервые осознается реальность
полиса. Ницше выводил греческий театр из дионисийского празднества, вакханалии
– «духа музыки». Дионис мистерий – существо аграрное, загородное. Но античный
театр вмещал поголовно свободное население полиса (города-государства),
учреждался и финансировался городскими властями и формировал гражданское
правосознание – воплощал конструктивный, аполлоновский «дух города». Высокое
напряжение меж ними породило трагедию, умеренное – драму, а низкое – комедию, каковая и воцарилась в
постклассической античности едва ли не на тысячелетие.
Не здесь ли, не в античном театре наметился и образ природы? Первоначально она имела облик
сатира – «лесного человека». Хор – это сообщество поющих и пляшущих сатиров, и
его сентенции («оракулы») – это первые законы природы. Природы, что действует
не вовне человека, а изнутри. Природное в человеке – это «врожденное», родовое
начало, противодействующее силам, «приложенным» к нему со стороны полиса. Их
непримиримость и образует трагическое – запредельное человеческому разумению.
Ницше рассматривает хорею как носителя высшей правды. Но зачем же тогда хоровая
истина вызывалась на арену и испытывалась театром?
Орхестра, обнимаемая амфитеатром, – это прообраз природы, объемлемой
культурой, принимающей закон естества к сведению, но все же преодолевающей его
самим актом созерцания – дистанцией эстетического отрешения.