Вячеслав
Шевченко. Становление объектива.
Аннотация. В области драмы «греческое чудо» состоит в создании амфитеатра – архитектурного тела, синтезирующего особую, специфически античную целостность множества «точек зрения». Она и послужила той формой «умного зрения», что унаследована Европой от греков. Однако в итоге культурного цикла античный театр принял вид оптического объектива, открывающего вид на иллюзию. Из средства постижения действительности театр превратился в ее зеркало.
Итак, театр – это монументальное оптическое устройство из разряда искусственных приставок к глазу вроде телескопа, микроскопа, камеры-обскуры, фотоаппарата или кинокамеры, каждая из коих расширяет возможности зрения. Разница в том, что театр организует коллективное зрение. Это циклопический (фасеточный) глаз существа, которое мы называем социумом, а греки – полисом или городом-государством. Но окоем этого театрона составлен из полей обычного зрения, интегрированных по зрительному залу, и потому подчиняется всем законам физиологической оптики. В этом смысле театр – всего лишь средство визуальной проекции сцены в пространство зала, и способом этого отражения определяется его форма. Казалось бы, устройство театра должно удовлетворять одному простому условию: обеспечить условия оптимального виденья сцены максимальному количеству зрителей. Однако какое зрение следует считать оптимальными?
Круговая форма античного амфитеатра идеально отвечает условиям всестороннего зрения, каковое и считалось объективным. Однако носителем божественной истины, обладателем всей ее полноты, она делает существо коллективное – население полиса. Истина такого театра – «соборная». Индивиду она недоступна – он ходит со своим зрительным конусом, как с жалкой вырезкой сферы, и страдает по истине тотальной. Платон добывал ее мысленно – в театре неба – любовным вращением глаза по орбитам небесных светил. Изображения космических обручей, усеянных глазами, украшают все сочинения Якова Беме и ему подобных ясновидцев. А для обычного, физического зрения его односторонность остается проблемой, разрешение которой и направляет, как мы увидим, эволюцию европейского театра.
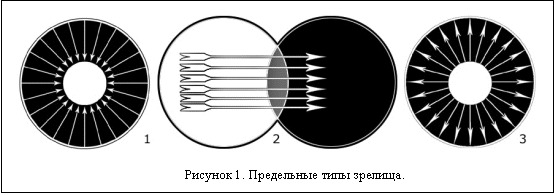
Предельные формы театра (в том числе и театра будущего) можно установить абстрактно, определив крайние случаи соотношения пространств сцены и зала. Если эти пространства совпадают, то перед нами «нулевая степень» театральности – «театр жизни». Если пространство зала охватывает пространство сцены, то это «арена» античного театра, стадиона или цирка (рис.1.1). Если, напротив, зал охвачен сценой, то перед нами круговая панорама, убранство храма или любого иного интерьера (рис.1.3). В общем же случае пространства сцены и зала пересекаются друг с другом, имея общую часть (рис.1.2).
Действительно, из всех исторических форм театра театроведенье выделяет в качестве предельных две: центральную и линейную [1] . В первом случае зрительный зал охватывает сцену и тогда театр имеет радиально-центрическую организацию, именуемую «центровой» или «лучевой», а круговая сцена называется ареной [2] . Во втором – объемы зала и сцены соприкасаются лишь во фронтальной плоскости; тогда театр имеет осевую симметрию и сцена называется коробкой [3] . Все прочие формы театра сводимы к комбинации указанных форм [4] .
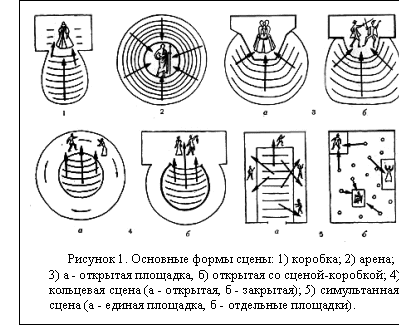 В истории театра были испытаны все перечисленные
формы (рис.4), и ни одна из них не вытеснила все остальные
[8]
. И все же античный театр эволюционировал в строго определенном
направлении: от радиально-симметричной формы к осевой, от сцены-арены к сцене-коробке.
В истории театра были испытаны все перечисленные
формы (рис.4), и ни одна из них не вытеснила все остальные
[8]
. И все же античный театр эволюционировал в строго определенном
направлении: от радиально-симметричной формы к осевой, от сцены-арены к сцене-коробке.
Как в классической Греции, так и на протяжении всего эллинизма основным местом игры актеров оставалась орхестра, то есть пространство хореи. И только «по мере уменьшения роли хора, а затем и его исчезновения, происходило постепенное сокращение пространства орхестры от полного круга до полукруга» [9] (см. как образцовый афинский театр 2 века н.э. – одеон Ирода Аттика [10] ). В римском театре освободившийся полукруг орхестры стал зрительским – его заняли места для сенаторов. «Второй же полукруг орхестры захватывался проскением, который теперь, выдвинувшись от стены скены до середины орхестры вперед, к зрителям, превратился в приподнятую сценическую площадку вытянутой прямоугольной формы …» [11] . Таким образом, пространство орхестры, покинутое хором, поделили между собой актеры и почетные зрители – круговая организация театра сменилась линейной.
Простой итог этой (почти тысячелетней) эволюции театра состоит в перемещении действия с открытой орхестры на закрытую сцену. Но тем самым начальная форма античного театра превратилась в свою противоположность: центральная симметрия сменилась осевой. Заметим, что это преобразование можно получить чисто формально: переводом плана театра из полярных координат в прямоугольные.
Во-первых, действие рассматривается уже не сверху, не в птичьей перспективе, а сбоку: зритель и актер располагаются на одной (или почти на одной) горизонтальной плоскости, отчего их горизонты совпадают [12] .
Во-вторых, пространство зала уже не включает в себя пространство сцены: их разделяет портал. Видимое вписывается не в круг орхестры, а в прямоугольный проем портала: зрелище вставляется в архитектурную раму – становится картиной.
Происходят странные вещи. Эллины – это единственный народ, возвысивший зрение над осязанием в практике «курватуры», направленной на исправление визуальных иллюзий. Архитекторы и скульпторы не жалеют сил, чтобы выправить телесную правильность вещей по оптической: архитравы, покрытия, колонны храмов изгибаются, чтобы глаз находил их прямолинейными; верхняя часть статуй удлиняется относительно нижней, чтобы глаз не замечал перспективных их искажений. Равенство поверяется не «абсолютно твердым» телом линейки, а перспективно видящим, способным обманываться глазом. Прямой угол контролируется не наугольником, а углом зрения.
Как расценивать эти факты? Казалось бы, они говорят о почтении к зрению: прямые тела должны поступаться своей прямотой для удовлетворения субъективных притязаний глаза; неравное телесно должно «казаться» глазу оптически равным – осязаемая реальность не должна оскорблять визуальную. Но о каком же почтении к глазу можно говорить, если все усилия направлены на его откровенный обман?
Все средства пластического искусства («технэ») вовлекаются театром не для изощрения, а для обмана зрения. Проще всего обмануть глаз, используя его физическую односторонность – заманивая аморфный эллипсоид зрения в перспективную коробку и рассекая его порталом сцены. Связанное с этим объединение всех зрительных конусов в один (хотя и весьма условное) открывает путь «центральной перспективе» [14] . Помимо перспективных эффектов, глаз обманывают заведомо бутафорские, пустотелые вещи, обращенные к зрителю – как маски – лишь одной стороной.
Исходный театр служил скорее абстрактным «чертежом» человека и мира, чем их полнокровной картиной – об этом говорит крайняя условность сценического представления: маска, котурны, жреческое одеяние при полном отсутствии бутафории и декораций. Первые драматурги представляли человека так, как геометры чертили свои фигуры на песке – не принимая во внимание характеристик их места. В дальнейшем маска сбрасывается с человека, он превращается в полнокровного гражданина, а бутафория и декорация набрасываются на его мир. Театр сближается с жизнью за счет все более детального изображения места действия – мира человека в его предметной, но случайной конкретности. В этом смысле итог эволюции античного театра можно уподобить превращению умозрительного «чертежа» в зримую «картину» [15] . Мы видим говорящую статую человека на фоне картины места действия в архитектурной раме.
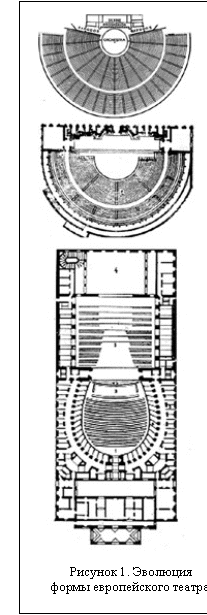 Этот эффект стоит того, чтобы проследить
его подробней.
Этот эффект стоит того, чтобы проследить
его подробней.
Обратим внимание на превращения сакрального центра. Символическим центром орхестры, вокруг которого разворачивалось действие, был поначалу алтарь Диониса – «архитектурно, конструктивно выраженный образ божества». Он располагался в середине орхестры на двухступенчатом возвышении, где находился исполнитель дифирамба. В первых трагедиях алтарь прямо участвовал в действии. Так, в «Просительницах» Эсхила он становился последним убежищем дочерям Даная, ибо был «мощнее башни и прочнее щита». Спрашивается, куда же подевался алтарь с исчезновением орхестры? Священный центр не улетучился, но он действительно приподнялся над уровнем сцены и превратился в центр зрительной перспективы, выстроенный новой организацией пространства и подправляемой Агатархом. Теперь это уже не «архитектурно», но чисто оптически выраженный образ божества. Он таится в глубине нового сакрального пространства, куда открываются двери в кульминации трагедии. Там, в глубине сцены, пребывают актеры, боги, покойные предки, а также машины – это кладезь тайн, секретов и эффектов театра [19] . Вот это пространство и сакрализуется заново – именно в него переносится смысловой центр. Это пространство оформляется искусством центральной перспективы, то есть утверждением центральной точки зрелища в сценической глубине. Но точка схода зрительных линий – это зримый образ пространственной бесконечности, заведомо чуждой Элладе. Весь зримый мир всасывается в проем сцены. Это уже та «углубленность» зрения, заменяющая его всесторонность, какую Шпенглер сделает символом «фаустовской культуры». Занавес римского театра отсекает это новое смысловое пространство от старого зала.
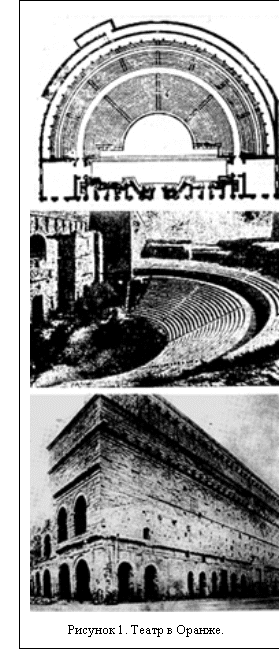 Выделим геометрический аспект этого превращения:
он снабжен собственной символикой и, стало быть, метафизикой.
Выделим геометрический аспект этого превращения:
он снабжен собственной символикой и, стало быть, метафизикой.А с точки зрения метафизики этого дела важно заметить, что благодаря этому разрыву театр, как место «встречи двух миров», с самого начала имеет два входа. Вход со стороны амфитеатра превращает человека в зрителя, вход со стороны скене – в актера. Поднявшись на сцену, человек становится существом искусственным, вымышленным. Это место, откуда исходит вымысел. Все действия актера условны, но именно он являет в театре всю полноту человеческих сил, тогда как зритель становится носителем чистого зрения. Театр раздваивает единого человека на действующего и видящего, чтобы собрать заново. А скене – это как раз то место, где приуготовляется встреча двух миров: переодеваются актеры, прячутся сценические эффекты, – там люди и вещи пресуществляются в реалии горнего мира. По сути, это «черная дыра» мира, явленного зрителю на светлой орхестре, – туда проваливаются просмотренные и откуда являются людям все новые «иные миры». Оттуда же, как из темной горловины античной вазы, выплескиваются на сцену протуберанцы дионисийских энергий, изживаемых в свете аполлоновской формы. Как и полагается наблюдателям «черных дыр» в астрофизике, зритель в упор не видит самой «скене» – закрывает на нее глаза.
Первоначальная чистота этой схемы сохраняется в стадионах, где люди играют себя, тогда как в театре нарастает массивность сценической коробки. Новым центром, вторым полюсом театра становится именно эта «дыра» иллюзорной действительности, куда и проваливается в конечном счете все античное мировоззрение.
Однако внешне эта дыра пока еще выглядит городом. Оформление портала и сцены эллинистического театра все более полно отображает саму городскую архитектуру – искусственный мир человека, обобщенный «дом всех домов». Со временем выстраивается единая «декорационная установка», одинаковая для всех спектаклей, – сначала из дерева, затем из камня. «Три ее двери, колонны, портик, боковые параскении обозначали наиболее типичные места действия – храм, дворец, дом. По мере эволюции античного театра эта архитектурная «декорация» становилась все более богатой и помпезной. В римском театре она представляла собой трехъярусный многосклонный фасад с рельефами и статуями, выполненными из мрамора, стекла, драгоценных металлов». Действия развертываются на фоне этой установки. В конкретном спектакле это обобщенное место дополняется сменными декорациями. В проеме этого фасада (портале) пространство развертывается в глубину сцены и декорируется с учетом точки схождения перспективных линий сцены. Однако «в греческой драме действие никогда не происходит внутри дома» [20] и вообще в закрытом пространстве.
Какая же новая форма зрелища возникла на закате античности? Во-первых, между сценой и залом проведена граница – теперь их пространства уже не вкладываются друг в друга, а разделены вертикальной плоскостью портала и могут отсекаться занавесом. Во-вторых, зал и сцена связываются между собою отношением взаимного отражения – зеркальной симметрии.
Образцом такого финала может служить римский театр на рис. 9. Портал сцены, изображающий обобщенное, уже не зависящее от содержания действия, место человека, олицетворяет сам город: архитектурно это триумфальная арка – триумф города. Он изображает то же, что видит городской человек за пределами театра – хотя и более обобщенно и пристрастно – пафосно. Там, в городе, невидимо разыгрываются те же коллизии, какие инсценируются в проемах театрального портала. Если бы человек мог видеть сквозь стены, он не нуждался бы в таком театре. Однако виденье сквозь стены – это виденье частной, а вовсе не «внутренней» жизни – о последней речь еще впереди.
 Итак, человек, входя из города в театр,
видит в портале сцены архитектурное изображение города. Что это значит? Мы начали с того, что определили
античный театр как форму самосознания полиса. Это определение выглядит довольно
«тощей» абстракцией: чтобы согласиться с ней, нужно сообразить, как именно
город мог бы сам себя «увидеть». Но вот перед нами вещественный итог именно
такой визуализации –
вполне осознавший себя, утвердивший себя в качестве последней реальности
гражданина, город. Это портал римской сцены. Как и в самом истоке, снова
имеется площадь перед сакральным пространством – но теперь уже внутри самого
театра. На площади (в зрительном зале) – по-прежнему зрители, они все так
же представляют сознание полиса, но в храме (за порталом сцены) – уже не
жрецы Диониса, но работники сцены: актеры вместе с механиками. Театр вернулся
к тому, с чего начинался, только лицедей из переносной палатки, разбиваемой
рядом с храмом на время площадных представлений, перебрался в сам храм на
правах священнослужителя. Не здесь зачиналось превращение искусства в «метафизическую
деятельность», как характеризовал его Ницше?
Итак, человек, входя из города в театр,
видит в портале сцены архитектурное изображение города. Что это значит? Мы начали с того, что определили
античный театр как форму самосознания полиса. Это определение выглядит довольно
«тощей» абстракцией: чтобы согласиться с ней, нужно сообразить, как именно
город мог бы сам себя «увидеть». Но вот перед нами вещественный итог именно
такой визуализации –
вполне осознавший себя, утвердивший себя в качестве последней реальности
гражданина, город. Это портал римской сцены. Как и в самом истоке, снова
имеется площадь перед сакральным пространством – но теперь уже внутри самого
театра. На площади (в зрительном зале) – по-прежнему зрители, они все так
же представляют сознание полиса, но в храме (за порталом сцены) – уже не
жрецы Диониса, но работники сцены: актеры вместе с механиками. Театр вернулся
к тому, с чего начинался, только лицедей из переносной палатки, разбиваемой
рядом с храмом на время площадных представлений, перебрался в сам храм на
правах священнослужителя. Не здесь зачиналось превращение искусства в «метафизическую
деятельность», как характеризовал его Ницше?
Сначала в античном театре нет никакого города: предметно он весь снаружи – и только его население собрано чашей амфитеатра. Зритель видит земной квадрат хора, вписанный в небесную окружность орхестры – видит предельно обобщенное, взятое в астрономической абстракции, место человека в мире, ранее означенное хореей. Назначение театра – указать гражданину новый образ его «места» мире. Постепенно в этом образе проступают черты города. Идеальный образ, изначально витавший перед умственным взором горожанина, стал вполне телесным: это один из самых разительных образцов «овеществления смыслов».
Если рассматривать эволюцию античного театра в терминах геометрической оптики, то ее содержание можно определить как разрешение конфликта всестороннего зрения с односторонним, божественного с человеческим. Соборное зрение требует всецелой уравновешенности, личностное – страстной односторонности. Но это последнее втягивается в иллюзорность – в мнимое пространство сцены.
Обобщая, можно сказать, что и в пространственной («скене – орхестра – амфитеатр»), и в драматургической модели («актер – хор – зритель») театра целое античного архаического сознания рассекается на части, чтобы собраться в новую форму.
В терминах социологии сознание зрителя разделяется на родовое и государственное: театр – это самосознание полиса, изживающего закон рода. Родовое сознание представлено хором, личностное – актером; в судьи призывается зритель, но суд его, конечно, пристрастен. Утверждая ценности города, театр постепенно вытесняет из себя хоровое начало. Вытесненное за пределы гражданина, оно начинает именоваться «природой» – предметом бесстрастных и безвидных «умозаключений». Фюсис отделяется от эйдоса, а сознание становится «субъективным».
И мифологическое, и социологическое, и психологическое содержание этого процесса хорошо изучены. Но нас интересует его геометрия – пространственная форма анаморфоз культуры. И, прежде всего, пространственная форма механизма рефлексии. Здесь действие этого механизма совершенно наглядно: актер в окружении хора, который в свою очередь концентрически окружается амфитеатром зрения, – это чистое воплощение «сцены в сцене», театрализованная схема самосознания.
Однако в процессе своей эволюции античный театр возвратился к своим истокам в том смысле, что из эллинской схватки светового и силового начал победителем вышел-таки бессмертный Дионис: как и подобает аграрному божеству, он умирает в трагедии, чтобы возродиться в фарсе. Последующая культура отождествила Аполлона с Дионисом в образе Люцифера: «князь тьмы» – это бог света, но «падший» до уровня физики.
В итоге культурного цикла античный театр принял вид оптического объектива (с затвором занавеса), но такая объективность воплощает субъективное зрение, открывающее вид на иллюзию.