Вячеслав Шевченко. 5. «Теория».
Аннотация. Культура
«осевого времени» живет преодолением «колеса рождений», Но если буддизм
превратил его в «колесо учения» как путь нирваны, то Греция переработала его в
дедукцию, подражающую ходу светил.
Дале деревья теряют
свои очертанья, и глазу
Кажутся то
треугольником, то полукругом –
Это уже выражение
чистых понятий,
Дерево Сфера властвует
здесь над другими.
Н. Заболоцкий
Греки создали театр как форму образного мышления и логику как форму мышления понятиями – метод построения объективного знания. Ницше уловил эту связь, связав с античным театром рождение ненавистного ему «теоретического человека». Действительно, и то и другое дает знание, не обеспеченное личным опытом, но этим ли объясняется общность трагедии с теорией?
О том, что такая связь чувствуется доныне,
свидетельствует, например, завершение монографии Стивена Вайнберга о
современной стандартной космогонии[1].
Обозрев бездны космоса, нобелевский лауреат находит их «ошеломляюще
враждебными»: «чем более постижимой представляется вселенная, тем более
она кажется бессмысленной». А завершает книгу следующими словами: «Но
если нет утешения в плодах нашего исследования, есть, по крайней мере, какое-то
утешение в самом исследовании. (…) Попытка понять Вселенную – одна из очень
немногих вещей, которые чуть приподнимают человеческую жизнь над уровнем фарса
и придают ей черты высокой трагедии».
Слово «теория» Б. Рассел истолковывает, вслед за Корнфордом, как «страстное и сочувственное созерцание»[2]. Это слово не только созвучно с «театроном», но и вышло из религии Диониса, породившей античный театр: впервые оно появляется в орфических текстах, и лишь затем перенимается пифагорейцами. Поэт и музыкант Орфей – это реформатор дионисийства, настолько радикальный, что легенда отдала его на растерзание правоверным вакханкам[3]. Математик и колдун Пифагор, в свою очередь, – реформатор орфизма; сам же орфизм пришел, вероятно, с Крита, связавшего эллинскую культуру с египетской. Идеал «созерцательной жизни» сформирован в Греции Орфеем и Пифагором[4]. «Три сорта людей существуют в этом мире, их можно сравнить с тремя категориями людей, приходящих на Олимпийские игры. Низший класс состоит из тех, кто приходит покупать и продавать, следующий, повыше, из тех, кто состязается. Но лучше всех, однако, те, кто приходит просто смотреть»[5]. Это очень оригинальная точка зрения на смысл жизни, но именно она определяет специфику античной мысли.
Отделившись от кочевой хореи, земледельческая дионисия заменила пламя костра огненной жидкостью – вином. А Орфей и вкушение вина сделал лишь символом вдохновения, знаком обретения «энтузиазма», «этимологически означающего вселение бога в поклоняющегося ему человека»[6]. «Оргия» обернулась аскезой, а участие в мистерии стало называться «причастием». «Цель причастия состояла в том, чтобы очистить душу верующего и помочь ей избежать круговорота рождения»[7]. Стало быть, хоровод первозданной хореи стал для Орфея, как и для Будды с его сансарой, образом всесветной тщеты и мороки. «Будда» означает «пробужденный», стало быть, «зрячий».
Но каким же таким способом созерцание умирающего и возрождающегося божества могло содействовать построению дедуктивной математики? Понятно, почему театральное действо стало в античности предметом «заинтересованного и страстного созерцания»: на сцене театра призывалась к ответу родовая жизнь, потрясаемая агрессивностью города. Но почему же «страстное созерцание» геометрических фигур – форм, начисто лишенных каких-либо признаков жизни – стало у тех же эллинов средством очищения души – более того, основанием нового способа существования в мире?
Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, придется вернуться к целому первозданного человека – первобытной хорее. Оставаясь частью хореического круга, человек не видел «колеса рождений». Мировое целое он мыслил в виде «дерева рождений» – «бьющего поколениями рода»,– а себя – частицей его кроны.
Считается, что все культуры, кроме новоевропейской, типологически принадлежат к «культуре мирового древа»[8]. Символ дерева – это «наиболее великолепная легенда человечества», воплощающая в мифопоэтическом сознании основную концепцию мира.
 И нетрудно сообразить, почему.
Дерево – это прежде всего явление вертикали
с ярко выраженной зеркальной симметрией корней и кроны, стволом
объединяющей землю с небом. Кроме того – это ветвление ствола, связывающего воедино множественность «верхнего» и
«нижнего» миров. И, наконец, это структура растущая.
Этого достаточно, чтобы абстрактную форму дерева наложить на любое органическое
многообразие. «С помощью мирового древа
различимы: основные зоны вселенной – верхняя (небесное царство), средняя
(земля), нижняя (подземное царство) (пространственная сфера); прошлое –
настоящее – будущее (день – ночь, благоприятное и неблагоприятное время года),
в частности, в генеалогическом преломлении: предки – нынешнее поколение –
потомки (временная сфера); причина и следствие; благоприятное, нейтральное,
неблагоприятное (этиологическая сфера); три части тела: голова, туловище, ноги
(анатомическая сфера); три вида элементов стихий: огонь, земля, вода
(«элементная сфера») и т.п.»[9].
И нетрудно сообразить, почему.
Дерево – это прежде всего явление вертикали
с ярко выраженной зеркальной симметрией корней и кроны, стволом
объединяющей землю с небом. Кроме того – это ветвление ствола, связывающего воедино множественность «верхнего» и
«нижнего» миров. И, наконец, это структура растущая.
Этого достаточно, чтобы абстрактную форму дерева наложить на любое органическое
многообразие. «С помощью мирового древа
различимы: основные зоны вселенной – верхняя (небесное царство), средняя
(земля), нижняя (подземное царство) (пространственная сфера); прошлое –
настоящее – будущее (день – ночь, благоприятное и неблагоприятное время года),
в частности, в генеалогическом преломлении: предки – нынешнее поколение –
потомки (временная сфера); причина и следствие; благоприятное, нейтральное,
неблагоприятное (этиологическая сфера); три части тела: голова, туловище, ноги
(анатомическая сфера); три вида элементов стихий: огонь, земля, вода
(«элементная сфера») и т.п.»[9].
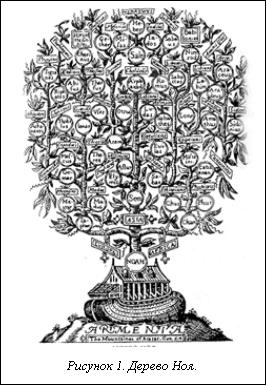 Эту символическую форму В.Н. Топоров выводит из строения
палеолитической пещеры, доказывая, что размещение отдельных изображений во всех
ее разветвлениях в целом воспроизводит их распределение по форме «мирового
древа». Стало быть, дерево можно представить вздыбленной, поднятой вертикально
пещерой. «…Поднятие мирового древа (или
его образа – шаманского дерева) означает установление всех мыслимых связей
между частями мироздания» – его
превращение в универсальную семантическую и мнемоническую систему. «Когда в таким образом организованное
пространство вводились объекты, они более или менее автоматически приобретали
определенные предикаты, названия действий или операций (которые могли
свертываться в атрибуты), составившие основу для возникновения сюжета. Не
случайно поэтому, что эпоха мирового дерева знает, по сути дела, лишь один
общий сюжет – успешную в конечном счете борьбу положительного, светлого, с
небом связанного начала с отрицательным, темным, связанным с преисподней
началом (обычно змей, дракон)»[10]. Поэтому
в «мировом древе» можно видеть символический памятник палеолиту,
стягивающий все его символы воедино[11].
Эту символическую форму В.Н. Топоров выводит из строения
палеолитической пещеры, доказывая, что размещение отдельных изображений во всех
ее разветвлениях в целом воспроизводит их распределение по форме «мирового
древа». Стало быть, дерево можно представить вздыбленной, поднятой вертикально
пещерой. «…Поднятие мирового древа (или
его образа – шаманского дерева) означает установление всех мыслимых связей
между частями мироздания» – его
превращение в универсальную семантическую и мнемоническую систему. «Когда в таким образом организованное
пространство вводились объекты, они более или менее автоматически приобретали
определенные предикаты, названия действий или операций (которые могли
свертываться в атрибуты), составившие основу для возникновения сюжета. Не
случайно поэтому, что эпоха мирового дерева знает, по сути дела, лишь один
общий сюжет – успешную в конечном счете борьбу положительного, светлого, с
небом связанного начала с отрицательным, темным, связанным с преисподней
началом (обычно змей, дракон)»[10]. Поэтому
в «мировом древе» можно видеть символический памятник палеолиту,
стягивающий все его символы воедино[11].
Связь образа «мирового древа» со структурой пещеры – это замечательное открытие, имеющее множество важных последствий. Можно только добавить, что утверждению этого образа в качестве «мирового» могла содействовать также (изоморфная дереву) структура реки – главного ориентира охотников и кочевников. Кроме того, важно учитывать, что древообразная структура мира прямо выводится из способности ума примечать сходство вещей в поиске их «начал» – извечного занятия любомудров[12]. От взыскующего требуется лишь способность отождествлять и различать вещи: подмечать подобие и находить его основание. Весь опыт жизни подсказывает, что подобие вещей указывает на наличие их общего источника, «предка» – начала. Начала в свою очередь тоже можно сравнивать, восходя от них к первоначалам и утверждая единое. Таковы, полагал Новалис, истоки символической «аналогии»[13].
Дети похожи на родителей и только поэтому похожи друг на друга. Есть, следовательно, два типа подобия. Сходство порожденного с порождающим асимметрично – это вектор, указывающий на предшествующий образец, парадигму. Сходство порожденных симметрично и скалярно, поэтому их различает лишь синтагма единовременного порядка. Поэтому в качестве миметического отношения выбирается порождение. Каждому акту логической абстракции соответствует утверждение временной дистанции – акт конструирования «первобытности». Так воздвигается парадигматическая ось мира – равнодействующая всех векторов сходства, указывающих на первообраз. Она же утверждается как ось родового времени – времени жизни «предков».
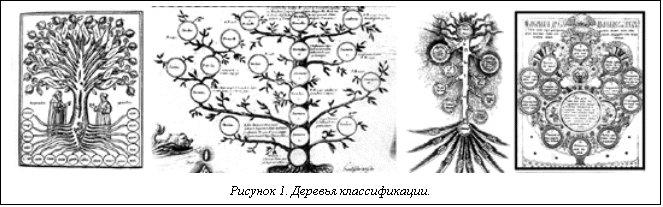 Родовидовая логика считывается,
таким образом, с отношений порождения. Генеалогические отношения
устанавливаются между всеми вещами мира: родовой универсум связывается этосом
большой семьи.
Родовидовая логика считывается,
таким образом, с отношений порождения. Генеалогические отношения
устанавливаются между всеми вещами мира: родовой универсум связывается этосом
большой семьи.
Многообразные отсветы этой древовидной формы мы найдем и у эллинов – при конструировании ими единого «мира идей». Однако универсальность этой формы явно переоценивается, когда из него выводится идея не только вертикального, но и горизонтального распорядка вещей. Рассматривая дерево сверху, в плане, и полагая «ось мира» изофункциональной древесному стволу, Топоров извлекает из этой схемы круг, квадрат (стороны света), времена года, а также весь набор мифопоэтических «числовых констант» (3; 4; 7; 12)[14].
А это, пожалуй, уже натяжка, ибо по части внушения человеку идеи «центрального порядка» с деревом могут поспорить, как мы уже видели, костер и, как еще увидим, захоронение и гномон[15]. Тот факт, что все они артефакты, порождения самого человека, не мешает, а помогает им в борьбе за умы. Образ дерева и поныне не утратил ни символического[16], ни прагматического[17] значения, однако универсальной он перестает быть с «осевого времени», – открытия «колеса рождений», когда процесс порождения стал мыслиться не ветвящимся, а круговым. Начиная с этого времени, культуру «мирового древа» начинает теснить культура «колеса»: органическая символика постепенно замещается механической[18].
У символа колеса два истока: небесный (вращение небосвода) и земной (костровая хорея). Поэтому колесный символ ведом и народам, еще не знавшим технического колеса.
Займемся поначалу колесом хореи. В культуре «древа» мировое время размерялось поколениями предков и осваивалось ритуалом. Здесь оно становилось подвижным кольцом масок. Ввязанный в него общей энергетикой, ритмикой, телесным контактом, участник хореи не видел себя, а если и видел, так глазами других. И все же общий ток, пронизывающий это ожерелье тел, размыкался в каждой точке зрения. Вот эта зрящая точка кольца и таила в себе потенцию освобождения.
Зачем нужно освобождаться от хореи – вопрос особый. Быть может, затем, чтобы присвоить себе всю полноту бытия, делимую поровну между участниками действа. А может, чтобы осознать свою персональную самобытность. То, что первому человеку непосредственно дано, так это его собственная психическая реальность с абсолютным центром, но крайне неопределенной границей. Это психика человека, незаметно перетекающая в реальность ближних, в том числе умерших, а также реальность всех иных предметов. Нечто такое, что нам уже трудно представить: психокосмос родового сознания, который потом философы назовут «мировой душой», а психологи – «коллективным бессознательным». Физическое еще предстояло обнаружить в психическом как неподвластную ему форму реальности.
В сакральном пространстве-времени люди управляют течением облаков и ветров, выговаривают звездам, направляют ход Солнца. С физической точки зрения все правила магического управления Вселенной крайне нелепы. И если Вселенная не всегда повинуется «заклятьем огнем и мраком», то это непослушание иначе, как сбоем в проведении ритуала, не объяснишь. Так что своим полезным итогом священнодействие имело управляемость не столько Вселенной, сколько самого индивида – сплочение коллектива людей. Именно поэтому, наверное, по своей жесткости ритуальная дисциплина не идет ни в какое сравнение с трудовой: тут всякое неверное слово чревато вселенской катастрофой, а взгляд получает способность исцелять и убивать.
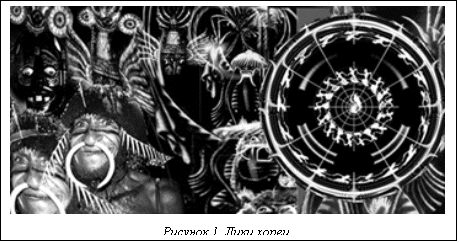
Мы видим, что
исторический прогресс не меняет сути этой проблемы. Вспомним «психонавтику»
инженера Лилли, обнаруживающего в нынешней жизни все тот же безысходный «вихрь нашего собственного эго,
конкурирующего в бешеном круговом танце с другими эго. Если покинуть центр, рев
коловратного вихря охватывает все более и более по мере того, как
присоединяешься к этому танцу». Но в его средоточии, полагает Лилли, «можно научиться жить вечно».
Проще всего освободиться от кругового движения, заняв его центр. Как быть, если центр один, а нас много? Нужно сделать хореический круг либо бесконечно (достаточно) большим, либо настолько малым, чтобы он уместился в компактном предмете. Далее мы увидим, что использовались обе возможности.
Орфизм – это хорея, увиденная глазами рядового участника, а не организатора действия. Процесс выделения личности из рода – ее высвобождения из вязкости хореической материи – и отразили, пожалуй, первые античные космогонии.

 Мы воображаем творение как
разымание целого на части, уже разделенные на небо и землю, воду и воздух,
людей и животных, ибо уверены, что их целое – это и есть «природа». Не так
выглядела ситуация для человека, чей умственный горизонт еще не ведал природы и
целиком замыкался хореей: ее реальность была куда горячей, чем реальность
облака, леса или моря – индивидуальные судьбы решались именно здесь (в
«божественном социальном», как выражался Э. Дюркгейм). Нужно вообразить первобытный
костровой хоровод скачущих, воющих, оскаленных масок изнутри – со стороны человека, видящего в нем свою последнюю
реальность, чтобы догадаться, почему в «предфилософии» всех народов сотворение
здешнего мира так часто выглядит оборением многоголового огнедышащего дракона. Это зримый образ родового
чудища, в какое человек изначально включен. «Колесом рождений» оно выглядит
только на достаточной дистанции; изнутри же оно является многочленным и
многоликим драконом – ожерельем экстатических масок, озаряемых всполохами и
затемняемых дымом костра. Начинаясь в одной руке каждого, он кончается в другой
– всех пронизывает энергия хореи. Знающий (в ретроспекции) изображает ее
гностическим змеем, пожирающим свой хвост, но видящий ощущает поглощаемым себя.
Зримое им в основании «конуса зрения» – сектор круга соплеменников, – это
истинное «небо» первобытного ума – нет ничего сильнее, страшнее и выше. Не о
таком ли небе напоминали Иезикиилю огненные колеса с ободьями, полными
подвижных глаз?
Мы воображаем творение как
разымание целого на части, уже разделенные на небо и землю, воду и воздух,
людей и животных, ибо уверены, что их целое – это и есть «природа». Не так
выглядела ситуация для человека, чей умственный горизонт еще не ведал природы и
целиком замыкался хореей: ее реальность была куда горячей, чем реальность
облака, леса или моря – индивидуальные судьбы решались именно здесь (в
«божественном социальном», как выражался Э. Дюркгейм). Нужно вообразить первобытный
костровой хоровод скачущих, воющих, оскаленных масок изнутри – со стороны человека, видящего в нем свою последнюю
реальность, чтобы догадаться, почему в «предфилософии» всех народов сотворение
здешнего мира так часто выглядит оборением многоголового огнедышащего дракона. Это зримый образ родового
чудища, в какое человек изначально включен. «Колесом рождений» оно выглядит
только на достаточной дистанции; изнутри же оно является многочленным и
многоликим драконом – ожерельем экстатических масок, озаряемых всполохами и
затемняемых дымом костра. Начинаясь в одной руке каждого, он кончается в другой
– всех пронизывает энергия хореи. Знающий (в ретроспекции) изображает ее
гностическим змеем, пожирающим свой хвост, но видящий ощущает поглощаемым себя.
Зримое им в основании «конуса зрения» – сектор круга соплеменников, – это
истинное «небо» первобытного ума – нет ничего сильнее, страшнее и выше. Не о
таком ли небе напоминали Иезикиилю огненные колеса с ободьями, полными
подвижных глаз?
Впрочем, колесо, как мы видели – изобретение довольно позднее. Хорею размыкали орфики, первыми узнавшими в ней образ самого времени – живой Хронос. В логике их «космотеогоний» едва ли можно разобраться: изобилие фантастических образов столь разнолико, что обычно их задают простым перечнем. Но можно заметить, что в числе первых, если не первым в этом перечне, часто описывается «двуполый крылатый дракон с головами быка и льва и ликом бога между этими головами»[19]. Таково, кажется, первое явление человеку творческой силы рода – с его же лицом. Это фантастическое существо сопровождает бестелесная Адрастия (Неотвратимая): растекаясь по всему миру, она связывает его. Вот эта пара и рассматривается обычно как орфический образ «нестареющего неотвратимого времени». Но откуда же взяться этому разнополому и разноголовому чудищу, как не из хронотопа хореи?
«От дракона происходят такие вполне естественные формы вещества, как влажный Эфир, беспредельный Хаос и туманный Эреб (мрак)». Естественный мир, окружающий хорею, орфики выводили изнутри нее. «В Хаосе как зиянии из вращающегося в нем Эфира зарождается космическое «яйцо»: мир порождает вращение тела хореи, остывающее в сфероиде зримого. Далее из яйца вылупляется Фанес. «Фанес, то есть «сияющий», – некий златокрылый, двуполый, самооплодотворяющийся, многоименный бог. Он содержит в себе зачатки всех миров, богов, существ и вещей. Прежде всего Фанес порождает свою противоположность – Нюкту-ночь, а от нее – Урана-небо, Гею-Землю, Понт-море»[20]. Тот факт, что наша «природа» возникает лишь на 7-м этапе творения, говорит о глубине этой концепции. Вместе с природой являются и все ее боги, так что последующие этапы космогонии уже менее оригинальны – их можно найти и у Гесиода.
Сложность этой концепции стоит отметить еще и затем, чтобы оценить отвагу пифагорейцев, объявивших орфическое многообразие первоначал мира избыточным: на самом деле «все состоит из чисел» и порождается самодроблением «единицы».
Окончательное доказательство этого тезиса и ныне
обращено к будущему. Сами же пифагорейцы озадачивались уже не происхождением
мира, а его устроением – воплощением в нем геометрического откровения орфизма:
идеи вращения, остывающего в
сферичном предмете. От хореи они освобождались, не разнимая ее на огнедышащего
дракона, а в целости и сохранности водружая ее на небо. «Филолай \ помещает \ огонь посредине, вокруг центра, который он
называет очагом Вселенной, домом Зевса, матерью богов, алтарем, связью и
мерой природы. И, кроме того, \ он принимает \ другой огонь, находящийся
выше всего и объемлющий \ вселенную \. Центральный \ огонь\ первый по природе,
и вокруг него пляшут в хороводе десять божественных тел: небо, пять планет, за
ними Солнце, под ним – Луна, под нею Земля и под Землею – Противоземля.
После всех этих \ светил \ огонь, занимающий место очага вокруг центра. Самую высшую область объемлющего \ огня \, в которой элементы находятся в чистейшем состоянии, он называет Олимпом; те же \ области \, которые находятся под круговращением Олимпа, где расположены пять планет вместе с Солнцем и Луной, \ он именует \ Космосом, лежащую же под ними подлунную часть, окружающую Землю, где \ находится \ область изменчивого рождения – Небом»[21].
 Образом «центрального огня»
пронизано все пифагорейство»: изначальный костер принял облик первичной
единицы-монады с отсветами на небе[22].
«Первое, что сложилось, Единица,
находящаяся в центре сферы, именуется Гестией» – писал Филолай в сочинении «О природе»[23]. «Именно огненная Единица была активным и
формообразующим началом, в то время как окружающий ее темный и холодный воздух
служил питательным материалом для этого огня»[24]. Развернутой теорией огненной Единицы и
стал, собственно, платонизм – учение о Едином. Почтение к первородному огню
– едва ли не единственное, что
объединяет Платона с его антагонистом Демокритом, тоже учившим, что «бог – это ум в шарообразном огне». Но
пифагорейцы первыми, кажется, додумались до понимания огня как символа
теургической мощи самого интеллекта – «очага
Вселенной, дома Зевса, матери богов, алтаря, связи и меры природы»[25].
Образом «центрального огня»
пронизано все пифагорейство»: изначальный костер принял облик первичной
единицы-монады с отсветами на небе[22].
«Первое, что сложилось, Единица,
находящаяся в центре сферы, именуется Гестией» – писал Филолай в сочинении «О природе»[23]. «Именно огненная Единица была активным и
формообразующим началом, в то время как окружающий ее темный и холодный воздух
служил питательным материалом для этого огня»[24]. Развернутой теорией огненной Единицы и
стал, собственно, платонизм – учение о Едином. Почтение к первородному огню
– едва ли не единственное, что
объединяет Платона с его антагонистом Демокритом, тоже учившим, что «бог – это ум в шарообразном огне». Но
пифагорейцы первыми, кажется, додумались до понимания огня как символа
теургической мощи самого интеллекта – «очага
Вселенной, дома Зевса, матери богов, алтаря, связи и меры природы»[25].
Пифагорейцы стоят у начала времени, называемого – с подачи К. Ясперса – «осевым»[26]. Это время, когда появились первые философы и оформились мировые религии – наметились идеи, вдохновляющие человечество до сих пор. Это время Конфуция и Лао-Цзы, Упанишад и Будды, иранского Зороастра, библейских пророков, античных мудрецов и философов. Время, когда человеку (в образе отшельника) открылась «творческая сила одиночества» и оформилась личность, способная духовно противостоять любому коллективу. Именно в эти века «сознание – по слову Ясперса – осознало сознание» и открыло человеку – как первый и последний предмет его мысли – бытие. Но в этих идеях, общих для Востока и Запада, наметились с самого начала и заметные различия.
Отыскивая, в духе Бергсона, «центральное видение» буддизма, популяризатор культуры Востока академик Ф.И. Щербатский находил его в образе того же пламени. «Картина эта – огонь светильника. Он горит, огонь кажется существующим, длящимся. Между тем в каждое мгновение мы имеем в действительности новый огонь, длящегося огня нет, следовательно, нет и огня вообще, а лишь какое-то течение каких-то элементов, которое мы привыкли называть огнем. Когда масло в светильнике иссякнет, огонь погаснет, течение элементов огня прекратится. Так угаснет и эта мировая жизнь, когда перестанут появляться элементы бытия. Путь к этому угасанию изменчивого мерцания нашей жизни найден Буддою в его нравственном учении»[27]. Об образах, конечно, не спорят, но не прочитывается ли он в картезианском духе кабинетных прозрений, не ведавших ночного костра? Почему иллюзорной представляется именно та форма пламени, что впечатляет, запоминается, пребывает, а не умственное «течение» невидимых «элементов»? По Платону, так пламя – само «элемент», и притом важнейший.
Тщетность родового «колеса рождений» открылась всем цивилизациям «осевой эпохи» как зрелище самой природы, и самым радикальным ее отрицание стало там, где она предъявляла человеку наибольшее изобилие своих сил и великолепие красок – в Индии. Полностью раскрывшись человеку, природа перестает его волновать. «Я ее видел» – говорит себе зритель, наблюдавший природу. «Он видел меня», говорит себе природа… Хотя соединение этих начал может еще держаться, но нет более повода к творению». «Как танцовщица перестает танцевать, показа свое искусство, так и природа перестает действовать после того, как она открылась духу». Так говорил Капила – ближайший предшественник Будды – современник Анаксимандра[28].
Зрелище природы Восток отверг как зряшную иллюзию, предпочитая ей нирвану: пустое – единственное, что не может обмануть[29]. Греки, напротив, восприняли это зрелище как пиршество зрения. «Понял ли ты, – спрашивает Платон, – какую драгоценную силу видеть и быть видимым создал зиждитель чувств?»[30]. Поставив превыше всего саму способность «созерцания», греки усмотрели за мельтешением преходящих вещей стройность истинно сущего – «космос»; расслышали внутреннюю «гармонию», с какой природа предъявляет себя. Если буддизм создал «колесо учения» как путь нирваны – «угасания», упразднения иллюзии, то Эллада, отличаясь особо страстным «сочувствием» к небесному, превратила его в «дедукцию» – подражание хорам стройных светил. Земную хорею они перевели в небесную. Но чтобы уразуметь, как именно они это сделали, нужно обратиться сначала к истории мандалы, а затем и гномона.