Вячеслав Шевченко.
8. Космическое колесо.
Аннотация. Символы современной
физики и техники восходят к колесному механизму Анаксимандра.
«Проследить за тем, как из
каракулей ребенка возникает организованная форма, – это значит увидеть одно из
удивительных явлений природы. Зритель не может не вспомнить о другом
созидательном процессе, процессе формирования во вселенной космических вихревых
движений и образования сферических тел из аморфной материи. Круглые формы
появляются постепенно в «тучах» зигзагообразных мазков» [[1]]. И тем не менее окружность,
формируемая такими трудами, сама по себе не означает – по авторитетному мнению
Р. Арнхейма – ровно ничего. «До тех пор, пока форма не станет
дифференцированной, окружность …будет означать любую форму вообще и никакую в
частности» [[2]]. О том, что
окружность сама по себе не имеет никакого смысла, писал и Ницше: это
неразумная необходимость, без какой-либо формальной, этической или эстетической
обратной стороны [[3]].
Как же согласовать это убеждение с тем фактом, что сам Ницше сделал круг своей
персональной мифологемой – символом сопротивления духу Нового времени?
До сих пор нас интересовали в круге те
специальные смыслы, какие он реализовал в архаических моделях мира и, в
частности, в мандале. Там он получил значение символа целого – неба,
космоса, вселенной, мирового времени – часто, если не всегда, ассоциируемое с
образом колеса. Но ведь колесо – это техническое устройство,
происхождение которого доныне представляется темным [[4]].
Самый древний его прообраз мы нашли в «хороводе» хореи [[5]].
В свидетели их сродства можно призвать Гомера с Данте: оба они, очарованные
вращением машинного колеса, не сговариваясь, припомнили «хоровод» (см. далее
«Поэтику механизма»). Но то же вращение мы находим в современных эмблемах науки
и техники. Если издревле круг с крестом обозначал мировое целое, то ныне он
символизирует «абсолютный минимум» природного и технического миров: атом и
шестерню.
Казалось бы, чтобы сделать круг знаком колеса,
достаточно изобразить спицы внутри или зубцы снаружи обода – наметить разделяющие
его радиусы. Однако в таком изображении специалисты по древним культурам сразу
узнают символ Солнца. Колесо вообще считают солярным знаком, о чем свидетельствует, например, обычай в период
солнцестояния скатывать с гор горящие колеса. А христиане видят в круге с крестом символ
власти Христа над миром. Так почему же этот сакральный образ стал символом
научно-технического прогресса? Что означает изначальная связь техники с
 космосом, почему доступ
к космосу открывает человеку именно она?
космосом, почему доступ
к космосу открывает человеку именно она?
Колесо, снабженное зубцами, стало
опознавательным знаком техники. «…Шестерня
является неотъемлемой частью любого механического станка, агрегата, машины и
тем самым служит как бы символом машинного производства. Поскольку сами по себе
машины крайне неэмблематичны, неудобны для изображения, то шестерня как
непременная деталь любой машины является удобным «представителем» машинного
(заводского, промышленного) производства» [[6]].
Однако шестерня – это скорее эмблема, чем символ: она отсылает к целому техники
образом ее минимальной, хотя и существенной, части. На деле это образ
механической связки, вне связуемых предметов не имеющей внятного смысла.
Поэтому не исключено, что в будущем этот символ еще сменится каким-то другим.
Быть может, техника еще не обладает внутренней целостностью, способной
имманентно порождать свои символы, и нужно подождать, пока символом тотальной
техники станут образы техносферы? Кстати, искателям логотипа техники
стоило бы присмотреться к спонтанному символотворчеству свидетелей НЛО [[7]].
Уничижительное словечко «тарелочка» прилипло к этим знамениям как бы в отместку
за их неуместность. А по сути они изображают летающее колесо – самый что ни
есть архаический символ небожителя.
 Интересно сравнить шестерню как эмблему техники с зарисовками
машин в самых ранних детских опусах, когда ее образ едва прорисовывается в
сознании ребенка. Рисунок 2 заимствован нами из книги Арнхейма. Опознать представленные
на нем предметы не просто, однако узнав, что рисунок изображает газонокосильщика,
мы сразу отличим в нем образ человека от изображения машины: последняя выглядит
вихрем, клубком окружностей. «Вихреобразные линии, расположенные справа,
изображают садовую косилку не только потому, что повторяющиеся круговые линии
визуально передают характерное движение машины, но и потому, что такие же
движения в процессе рисования совершает детская рука» [
[8]
]. Моторность действует тут по обе стороны образа.
Интересно сравнить шестерню как эмблему техники с зарисовками
машин в самых ранних детских опусах, когда ее образ едва прорисовывается в
сознании ребенка. Рисунок 2 заимствован нами из книги Арнхейма. Опознать представленные
на нем предметы не просто, однако узнав, что рисунок изображает газонокосильщика,
мы сразу отличим в нем образ человека от изображения машины: последняя выглядит
вихрем, клубком окружностей. «Вихреобразные линии, расположенные справа,
изображают садовую косилку не только потому, что повторяющиеся круговые линии
визуально передают характерное движение машины, но и потому, что такие же
движения в процессе рисования совершает детская рука» [
[8]
]. Моторность действует тут по обе стороны образа.
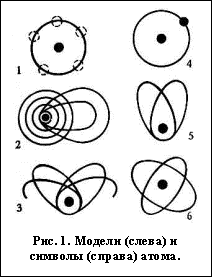
Наука, напротив, символизируется ныне
изображением атома. В отличие
от шестерни, это не эмблема, а действительно символ: он отсылает к своему
предмету, не претендуя на сходство с оригиналом. Физика давно отказалась от
попыток вычертить электронные орбиты. Атом – это не столько геометрическая,
сколько энергетическая сущность – первоисточник силы, центр спонтанной
активности, бесконечно размноженный «перводвигатель» античных философов. Но
хотя идея моторности хорошо передается всяким клубком окружностей, в том числе
детским, ее дизайнерская разработка аккуратно следует за уточняющимся
физическими моделями атома – от схемы Э. Резерфорда до схемы А. Зоммерфельда
(рис.3).
Предлагались и другие знаки – прежде всего
радиации: снопа лучей, исходящих из одной точки. Однако сноп лучей может
служить и эмблемой света, а смысл символа должен раскрываться с первого взгляда
[[9]].
По той же причине на роль общезначимого символа не может претендовать (сама по
себе выразительная) эмблема Института ядерной физики – «изображение золотой латинской буквы U (означающей уран) с красной
точкой в центре (символизирующей раскаленную плазму) и исходящими от нее
четырьмя золотыми лучами (символ излучения, радиации)» [[10]].
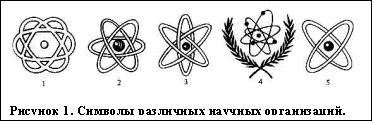 Нетрудно заметить, что все представленные модели атома
варьируют один и тот же мотив – связку окружностей (эллипсов), объединенных
общим центром. Как не узнать в ней стилизованное изображение старинной модели
космоса – армиллярной сферы? [
[11]
] Форма, царившая над умами ученых в течение тысячелетий
и еще в Средневековье ставшая их опознавательным знаком, как-то сама собою
возрождается в моделях «фундаментального объекта» нашей науки. Стало быть,
на символическом уровне объект познания не слишком изменился?
Нетрудно заметить, что все представленные модели атома
варьируют один и тот же мотив – связку окружностей (эллипсов), объединенных
общим центром. Как не узнать в ней стилизованное изображение старинной модели
космоса – армиллярной сферы? [
[11]
] Форма, царившая над умами ученых в течение тысячелетий
и еще в Средневековье ставшая их опознавательным знаком, как-то сама собою
возрождается в моделях «фундаментального объекта» нашей науки. Стало быть,
на символическом уровне объект познания не слишком изменился?
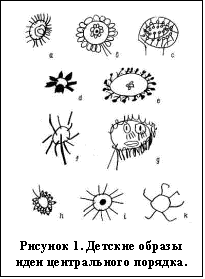 О фундаментальности идеи «центрального порядка» могут
свидетельствовать, опять же, детские рисунки (рис.5). Как только ее модель
освоена ребенком, она применяется им для освоения объектов, не имеющих меж
собой ничего общего: абстрактной композиции (а), цветка (b), дерева с листьями
(с), головного убора (d), пруда с деревьями (е), дерева с ветвями (f), головы с волосами
(g),
кисти с пальцами (h), солнца или лампы (), бегущего человека (к). Центрально-симметричная
круговая форма явно предпочитается древовидной.
О фундаментальности идеи «центрального порядка» могут
свидетельствовать, опять же, детские рисунки (рис.5). Как только ее модель
освоена ребенком, она применяется им для освоения объектов, не имеющих меж
собой ничего общего: абстрактной композиции (а), цветка (b), дерева с листьями
(с), головного убора (d), пруда с деревьями (е), дерева с ветвями (f), головы с волосами
(g),
кисти с пальцами (h), солнца или лампы (), бегущего человека (к). Центрально-симметричная
круговая форма явно предпочитается древовидной.
Если родовое сознание отождествляло «архе» с основателем рода – корнем дерева предков, то городское видит его центром круга. Это преобразование «древа мира» в «махину мира» (в образе «космического колеса») начинается в эпоху ранних царств – в 4 тысячелетии до н.э.
Божественные колеса ведомы, кажется, всем народам. В азиатских культурах – это «колесо рождений», в буддистских – «колесо учения». На Ближнем Востоке огненные круги и венцы наблюдались пророком Даниилом, Иезикииль тоже видел пылающие колесницы с ободьями, полными глаз (Иез.1:15-18); позднее окрыленными колесами изображались херувимы. Персидские маги учили о «небесном колесном сокровище», а цари воплощали его на земле. «Иран является классической страной колесного города с математически точным круговым контуром…сообразно иранскому представлению о круглой, жестко ограниченной земле, которая делится на шесть каршваров (секторов), расположенных вокруг центрального седьмого каршвара как «лучистого, звучного колеса». Ступицу, обод и спицы имеет также иранская метрополия» – сообщает В. Мюллер об иранских городах-кругах [[12]]. А в европейском регионе культура «колеса» окончательно утвердилась, когда Анаксимандр водрузил его на древнегреческое небо.
Образ дерева неявно содержит в себе образ сферы и, значит, круга. Если мысленно спроецировать дерево на плоскость земли, то явится ядерно-оболочечная структура, напоминающая атом: твердый ствол в рыхлом круге, сплетенном из листвы и ветвей. Ту же форму дает мысленный срез дерева плоскостью, параллельной земле. Однако планиметрическая проекция или чертежный «разрез» – не те способы, каким один образ мира преобразуется в другой. Трансформацию древовидной структуры мира в колесную невозможно представить без содействия культуры мегалитов.
«Греческому чуду» предшествовало египетское. Если рациональность европейской культуры укореняется нами в Элладе, то иррациональность как-то само собою соотносится с древним Египтом; его «таинственность» лишь подтверждается тем, что нередко это делается вопреки историческим фактам. К египетским мистериям возводит себя вся европейская эзотерика, сказаниями о «тайнах пирамид» полнится современная поп-культура.
Культуры прошлого видны нам не в мифах, а в символах. Кто помнит нынче египетскую мифологию и может уразуметь ее смысл? А вот пирамиды встают перед каждым при всяком упоминании о Египте.
Миф можно рассматривать как глагольное сказуемое к символу-подлежащему. Это сказуемое разворачивается в жизни не только носителей изначального мифа, но и всех, кто видел, видит и еще увидит подлежащее зрению. Завершение высказанного древними пирамидами принадлежит будущему. Поэтому в их облике остается некая магическая недоговоренность – ощутимая в равной мере и эллином, и современным человеком. Стало быть, «дух» Египта продолжает вершить свое дело.
Разыскивая корень египетской культуры, следует присматриваться к ее пирамидам. Мифы не объяснят, какая сила подвигла египтян претворить сотни тысяч человеческих жизней в каменные изваяния геометрии. Еще недавно церкви вырастали в каждой деревеньке с неотвратимостью, с какой в лесу плодятся грибы. Их стоимость часто превышала стоимость всего поселения, но тысячелетиями это никого не трогало – даже самых обездоленных. Символичны те вещи, что утверждаются человеком за пределами житейской необходимости и даже вопреки ей – по отношению к ним не имеют смысла аргументы от здравого смысла. Это вещи, посредством которых человек выясняет свои отношения с вечностью.
Обратив внимание на техническую сторону «египетского чуда», Л. Мамфорд связал его с утверждением централизованной власти. Каменная и социальная пирамиды строились одновременно – в Египте, Месопотамии, Индии, Китае, Америке – в эпоху, когда царская власть сменяла власть общины, собираясь в храме или дворце [[13]]. Бюрократию, созданную для осуществления этой власти, он назвал «мегамашиной» – прообразом современной машины [[14]].
Для реализации таких
проектов, как пирамида Хеопса, приходилось осуществить «мобилизацию большой массы людей и строгую координацию их деятельности
во времени и пространстве для достижения заранее определенной, ясно видимой и
рассчитанной цели». «Трудность состояла в превращении случайного сборища
человеческих существ, оторванных от семьи, общины и привычных занятий, (…) в
механизированную группу, которой можно было бы манипулировать с помощью команд.
Секрет механического контроля заключался в том, чтобы поставить во главе
организации единственный мозг с четко определенной целью, а также в методе передачи
приказов вплоть до мельчайших ее подразделений через ряд промежуточных
функционеров. Существенно важными были точное воспроизведение приказов и
абсолютное повиновение» [[15]].
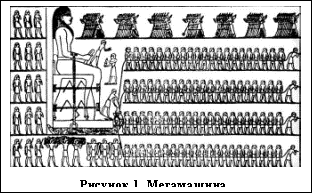 Мегамашина состоит из совершенно разнородных частей. Первая – орган,
орудие, инструмент: камень, палка, лук, ловушка и прочие средства воздействия
на природу. Даже в сложнейших своих формах – это механическое продолжение
органа, замкнутое на человеческое тело. Вторая – жреческая, военная и государственная
организация: совокупность алгоритмов, норм и правил действия, обращенных
на самого человека. Такая машина обслуживает коллектив и замкнута на человеческое
сознание. Первая система является телесной, вторая – знаковой. Но обе они
имеют целью преодоление «человеческих измерений и органических пределов» деятельности. Обе
– преодоление органического.
Мегамашина состоит из совершенно разнородных частей. Первая – орган,
орудие, инструмент: камень, палка, лук, ловушка и прочие средства воздействия
на природу. Даже в сложнейших своих формах – это механическое продолжение
органа, замкнутое на человеческое тело. Вторая – жреческая, военная и государственная
организация: совокупность алгоритмов, норм и правил действия, обращенных
на самого человека. Такая машина обслуживает коллектив и замкнута на человеческое
сознание. Первая система является телесной, вторая – знаковой. Но обе они
имеют целью преодоление «человеческих измерений и органических пределов» деятельности. Обе
– преодоление органического.
Но если органический порядок существования отвергается – то во имя какого иного? Конечно же, во имя – «небесного». Пирамида – это материальное явление народу духа геометрии. Это форма возведения множественности к единству, разлучающая культуру с органичностью «мирового древа».
Форму пирамид возводили к
окаменевшим лучам (снопу лучей) Солнца, однако ее обусловленность космосом
глубже и неотвратимей. Она начинается «с
осознания предсказуемости движений Солнца и планет или …с еще более устойчивого
и предсказуемого положения Полярной звезды». «Порядок, передававшийся на землю
с неба через царя, доводился до каждой детали машины и со временем создал
механическое единство, которое легло в основу других институтов и видов
деятельности: в них начала проявляться та же регулярность, которая
характеризовала движение небесных тел» [[16]].
То, что мы сейчас называем наукой, пишет Мамфорд, с самого начала было частью, а может, и чистейшим выражением духа этой мегамашины.
Что касается формы мегалитического святилища, то для ее создания не требуется никакой науки, кроме готовности столетиями запоминать (отмечая камнями) точки восхода и захода Солнца. Люди делают это, выверяя по небу земные ориентиры деятельности. Здесь они обучаются размечать горизонт, противопоставляя друг другу камни-визиры, то есть проводя прямые по лучам света. Эти прицелы сами собой образуют круги, следуя путям Солнца. Тут форма космоса воспроизводится «бессознательно»: зарисовывая камнями движение Солнца, человек не знает заранее, что получится Стоунхендж – общий план строения вырисовывается лишь в итоге вековых наблюдений и трудов. Но если идеальная форма построена, то далее ее можно воспроизвести в какой угодно материи.
Следование готовому образцу – это совсем другая работа: достаточно сделать идеальный образ неба монументом, внятным не только астроному. Для этого нужно уметь притереть каменные глыбы друг к другу, а для того знать, что такое плоскость, прямая, прямой угол, а также иметь их предметно воплощенными – применимыми к глыбам в форме прави́ла (угольника). Это работа уже не звездочета, а инженера. А чтобы выполнить эту монументальную работу, нужно притереть друг к другу тысячи своевольных существ в едином механическом ритме. Это работа чиновника и погонщика, вооруженного другим прави́лом – кнутом и мечом.
Но могут ли кнут и меч подчинить сотни тысяч человеческих существ одному человеку? Что собирает людей воедино – остается тайной государства.
Это тайна формы, противостоящей роду в облике города, истока цивилизации. Власть рода непреложна до тех пор, пока человека-собирателя, скотогона или земледельца питает органическая сила земли. Покуда растительный и животный мир возвращал посеянное сторицей, он оставался самовозрастающей ценностью, а семья – единственной формой человеческой общности. Люди объединялись, чтобы продлевать жизнь, питаясь жизнью. Жизнь рода – абсолютная ценность такой культуры. Каким образом в ней мог зародиться и утвердиться другой «центральный порядок», отрицающий полновластие рода?
Мамфорд убедительно связывает техническую сторону построения пирамид с зарождением самого духа тотальности. Родовое сознание воплощалось в образе «мирового древа», но это дерево предков, укорененное в прародителе, живет лишь в памяти и оживает в ритуале. Однако когда место мифического прародителя занял наличный царь, а место более поздних предков освоили живые жрецы, произошла подлинная ментальная революция. Если раньше первоначала вещей являлись людям лишь во времени ритуала в обличии более или менее обобщенных масок, то теперь они обозначились в профанном времени-пространстве. Дух рода («архе») воплощается в человеке не на период священнодействия, а на все время его жизни. Высшему же жрецу подобает бессмертие самого «архе». «Стремление к беспредельной жизни явилось частью общего раздвижения пределов, к которому привело великое сосредоточение власти с помощью средств, созданных мегамашиной. Человеческие слабости и прежде всего смерть были оспорены и отвергнуты» [[17]]. А это уже идея («культ») личности – хотя пока и единственной – царской.
Важно заметить, насколько это меняет само понятие человека. Как органическое существо, как явление природы, человек на вершине социальной пирамиды ничем не отличается от человека в ее основании. Разнятся они исключительно властью: чем меньше прав внизу, тем больше их наверху, где собираются права, отторгнутые у нижних. Низ человека низведен до механизма, верх вознесен до божества. Унижением многих задается масштаб и мера возможностей человека, не зависящих от его органической природы и определяемых исключительно его местом в социуме. Это новая «система естественная мест», в высшей степени неестественная, но исключительно эффективная для достижении коллективных целей. Какой же энергией питалась эта система, если не «централизацией» – утверждением «небесного порядка» на земле?
Возвращаясь к теме «театра», мы находим в пирамиде символ пребывания, воздвигаемый на сцене становления. От неолитических мегалитов-святилищ она отличается тем, что сочетает с укрытием покрытие, сопрягая два круга значений: космическое и земное. В этом смысле пирамида – это монументальная мандала. Дух божества, что символически вызывается в центр мандалы, она заключает в себе буквально. Попытки обеспечить бессмертие духа материальными средствами достигают в Египте предела, за которым становится очевидной их тщетность. Зато они облачили камнем дух Солнца.
«Много раз, – вспоминал инженер-конструктор Д. Несмит, сын известного пейзажиста,
– впитывая изысканное зрелище лучей Солнца, струящихся вниз к Земле сквозь
разрывы в облаках…я невольно и неминуемо замечал их сходство с формой
Пирамиды, а единичный, вертикально падающий вертикально луч напоминал мне
обелиск…В Лувре я обнаружил маленькую пирамиду с диском Солнца наверху …» [[18]].
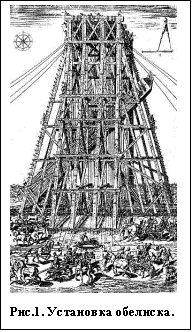 Каменная пирамида – это такое же средство
концентрации, как и социальная иерархия. В планиметрическом представлении
это квадрат, диагонали которого, отвечающие треугольным граням строения, пересечением
фиксируют центр основания. Как центр основания он обозначает место захоронения,
как вершина пирамиды – он служит строителю образом «пятого угла», что связывает
собой его «краеугольные камни», почему и становится «квинтэссенцией» пирамиды,
именуемой в алхимии «философским камнем» [
[19]
]. Обелиск, возносящий этот мистический центр над землей,
– это чистая вытяжка из мегалитической культуры – явление в теле гномона аполлоновской
формы. Это орудие построения того самого солнечного миротворного круга, что
кажется столь чуждым телу пирамиды. В «снятом» виде гномон-обелиск содержит
в себе всю теоретическую (астрономическую) часть мегалитической культуры –
это ее «квинтэссенция». То, что изображалось когда-то самим камнями, стало
вычерчиваться на камнях, а каменные подобия небосвода сменились чертежами
солнечных колес. Совсем не случайно первый гномон в Греции установил именно
Анаксимандр – изобретатель космического
колеса.
Каменная пирамида – это такое же средство
концентрации, как и социальная иерархия. В планиметрическом представлении
это квадрат, диагонали которого, отвечающие треугольным граням строения, пересечением
фиксируют центр основания. Как центр основания он обозначает место захоронения,
как вершина пирамиды – он служит строителю образом «пятого угла», что связывает
собой его «краеугольные камни», почему и становится «квинтэссенцией» пирамиды,
именуемой в алхимии «философским камнем» [
[19]
]. Обелиск, возносящий этот мистический центр над землей,
– это чистая вытяжка из мегалитической культуры – явление в теле гномона аполлоновской
формы. Это орудие построения того самого солнечного миротворного круга, что
кажется столь чуждым телу пирамиды. В «снятом» виде гномон-обелиск содержит
в себе всю теоретическую (астрономическую) часть мегалитической культуры –
это ее «квинтэссенция». То, что изображалось когда-то самим камнями, стало
вычерчиваться на камнях, а каменные подобия небосвода сменились чертежами
солнечных колес. Совсем не случайно первый гномон в Греции установил именно
Анаксимандр – изобретатель космического
колеса.
 Называя прообразом античного философского
«перводвигателя» царя, Мамфорд не вполне точен. Действительно, было время,
когда царь-жрец единолично отвечал за исправность мирового порядка. «Упорядочение пространства, творение времени, регулирование сезонного
цикла представляются включенными в деятельность царя…». Но этот порядок
не устанавливался им, а лишь периодически поддерживался в критические моменты
времени, требующие ритуала. Ежегодно в день солнцеворота вавилоняне обновляли
творение. «Считалось, что к этой дате
время завершает свой цикл: мир возвращается к своей исходной точке. То был
критический момент, когда весь мировой порядок считался не установленным.
Во время праздника царь разыгрывал пантомиму ритуальной битвы с драконом,
как бы повторяя борьбу Мардука с Тиамат» [
[20]
]. Судьбы мира ежегодно зависали на волоске и начинали
зависеть от исхода поединка властителя Вавилона с силой мирового
хаоса. Да, своей победой царь восстанавливал износившуюся связь времен, но
сама эта связь устанавливалась не его волей и силой.
Называя прообразом античного философского
«перводвигателя» царя, Мамфорд не вполне точен. Действительно, было время,
когда царь-жрец единолично отвечал за исправность мирового порядка. «Упорядочение пространства, творение времени, регулирование сезонного
цикла представляются включенными в деятельность царя…». Но этот порядок
не устанавливался им, а лишь периодически поддерживался в критические моменты
времени, требующие ритуала. Ежегодно в день солнцеворота вавилоняне обновляли
творение. «Считалось, что к этой дате
время завершает свой цикл: мир возвращается к своей исходной точке. То был
критический момент, когда весь мировой порядок считался не установленным.
Во время праздника царь разыгрывал пантомиму ритуальной битвы с драконом,
как бы повторяя борьбу Мардука с Тиамат» [
[20]
]. Судьбы мира ежегодно зависали на волоске и начинали
зависеть от исхода поединка властителя Вавилона с силой мирового
хаоса. Да, своей победой царь восстанавливал износившуюся связь времен, но
сама эта связь устанавливалась не его волей и силой.
В профанном времени царь вершил судьбу человека, в сакральном – судьбу всего мира. Но именно потому, что царь связывал два мира, ни тот ни другой еще не были «самодвижущимися». Тут нет места «природе».
Как ни зыбка граница между мифологией и философией, последняя безошибочно опознается по одному признаку: из многоликости мира исчезает лицо – зверя или человека; право на самобытность признается за всеми вещами [[21]]. Это не исключает одушевленности мира – дело именно за обезличением. Историю античной философии отсчитывают с Фалеса, несмотря на его веру в демонов: пусть мир кипит энергиями – довольно того, что они безвидны и не застят глаза. А следующий шаг – от философии к физике – состоит в обездушении мира [[22]]. Этим актом и вводится представление о «природе» как универсуме вещей, «содержащих принцип своего движения в самих себе». Обнаружение вещей, движущихся без души – это и есть открытие «природы». Только у «физиков» облака и ветры, светила и реки «движутся сами» – так, как делают это звезды. Или тень гномона.
Царская власть архаической Греции была разрушена задолго до возникновения греческого театра; ее сменила межусобица аристократических родов, которая все более сводилась к соревнованию представлявших их героических личностей. Театр окончательно разлучил гражданина полиса с образом всеразрешающего «хоровода». Афинянин не должен полагаться ни на веретена Мойры, ни на колеса Фортуны – делами агоры правит не хоровод, а динамическое равновесие сил, общность которых состоит лишь в тяготении к центру. Это равновесие рынка, где попарные столкновения интересов приводят к приращению «центральной ценности» – богатств Акрополя.
«Политика …приняла форму агона
– состязания в красноречии, борьбе мнений, местом проведения которого была
агора, площадь, место собраний, ставшее впоследствии рынком. (…) Центром города
отныне становится агора, общее пространство, место общего Очага (очага Гестии),
площадь, где обсуждаются проблемы, представляющие общий интерес.(…) На руинах
дворца, в Акрополе, воспроизводится в религиозном плане та реальность, которая
в светском плане существует в масштабе агоры. Такая картина города означает
новое мыслительное пространство, открывающее новый духовный горизонт. С
момента, когда город стал ориентироваться на общественную площадь как на центр,
он становится полисом уже в полном
смысле этого слова» [[23]].
Прослеживая рождение древнегреческой мысли, Ж.П. Вернан ни словом не поминает об античном театре. Зато прямое отражение этого «нового мыслительного пространства, открывающего новый духовный горизонт», он находит в экстравагантных конструкциях Анаксимандра, разместившего небесные светила на грандиозных колесах. Истоки этого переворота Вернан справедливо усматривает в рукотворных моделях мира, впервые изготовленных этим философом: гномоне, установленном им в Спарте, небесном глобусе и карте Земли.
К Анаксимандру восходят едва ли не все фундаментальные идеи естествознания, включая эволюционные и эсхатологические. Он первым использовал слово «архе» для обозначения философского «первоначала». Он первым назвал его беспредельным («апейроном») и установил его закон. «А из чего возникают все вещи, в то же самое они и разрешаются, согласно необходимости. Ибо за свою нечестивость несут наказание и получают возмездие друг от друга в установленное время» [[24]]. Эта фраза, – единственная, что сохранилась из его сочинений, – известна по нескольким пересказам и во множестве различных переводов. Спорят о том, является ли «всеобщая нечестивость» вещей приобретенной и потому исправимой, или же она соприродна им как первородный грех. Однако бесспорно, что отныне мировой процесс цикличен и что вещи являются должниками друг друга, а не целого, порождающему и поглощающему их с одинаковым безразличием.
Ему приписывают саму идею сферичности космоса – с крайне оригинальной, поразившей самого Аристотеля, аргументацией: Земля покоится в пространстве потому, что не имеет основания двигаться в том или ином направлении, все они равноценны. Здесь видят первое явление грекам идеи совершенной симметрии – той уравновешенности противонаправленных сил, что становилась к тем временам идеалом гражданской жизни.
И все же космос Анаксимандра еще не вполне сферичен: Землю он изображал цилиндром с поперечником в треть высоты [[25]] – это реликт то ли алтаря, то ли гномона. Кроме того, светила он размещал не на сферах, а на колесах. «Светила, по Анаксимандру, есть гигантские колеса, вращающиеся вокруг Земли и имеющие общие с нею центр. Каждое такое колесо имеет непроницаемую для света оболочку, состоящую из сгущенных паров, внутри же оболочки находится огонь. В этих оболочках проделаны отверстия; огонь, видимый через эти отверстия, и есть то, что мы называем небесными светилами...» [[26]]. Этих колес три: на первом от Земли размещаются звезды, на втором – Луна, на третьем – Солнце. Предвосхищая Кеплера, Анаксимандр пытался вычислить «рациональное основание» для радиусов этих колес.
Размещение звезд в наибольшей близости к Земле не имеет прецедента в древнегреческой мысли. Зато имеет в иранской: Рожанский цитирует исследователей, находящих ему аналоги в персидской мифологии. К этим свидетельствам можно добавить аргумент от самого колеса: учение о «небесных колесницах» особенно интенсивно развивалось именно в Иране.
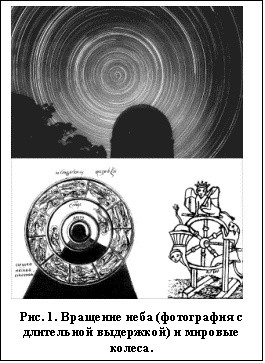 Символ колеса, как мы видели, крайне многозначен.
Однако колесо, измышленное технически, получает более узкий смысл. Колесо
Анаксимандра устроено достаточно сложно: это кольцевая полость (сегодня сказали
бы – шина) с отверстиями, изготовленная из сгущенного воздуха и наполненная
огненным веществом. Сколь причудливым ни представляется такое сооружение,
оно осуществимо технически – пусть в ином материале и масштабе. Чего
не скажешь о символических колесах Даниила или Иезикииля.
Символ колеса, как мы видели, крайне многозначен.
Однако колесо, измышленное технически, получает более узкий смысл. Колесо
Анаксимандра устроено достаточно сложно: это кольцевая полость (сегодня сказали
бы – шина) с отверстиями, изготовленная из сгущенного воздуха и наполненная
огненным веществом. Сколь причудливым ни представляется такое сооружение,
оно осуществимо технически – пусть в ином материале и масштабе. Чего
не скажешь о символических колесах Даниила или Иезикииля.
Колесный механизм Анаксимандра замечателен как раз своей техничностью: он показывает, как мир может быть сделан. Важно и то, что он начисто исключает вопрос о царственном или божественном двигателе.
Воздвигая «архе» на небо, Анаксимандр упраздняет мифическую дистанцию между чувственным миром и его «архе» – она становится чисто пространственной. Его «апейрон» правит миром не из прошлого – он здесь-и-теперь «все объемлет и всем правит». Сам по себе он беспределен и потому невидим, но первая функция апейрона – «окружать» и «кружить» – полностью явлена космическим колесом. В личности своего изъявителя оно нуждается не больше, чем писаный закон [[27]].
Колесо Анаксимандра символизирует новый образ времени: это та же хорея, но удаленная на теоретическую дистанцию: еще «окружает», но уже не «кружит», потому что видящий находится в ее центре. Это акт окончательного освобождения человека хореи. Недаром его система природы (впервые в Греции) изложена прозой: философ отказывается от искусства хореи – умения попадать в такт [[28]].
Поднятая к бессмертным богам,
хорея перестает выглядеть «колесом рождений»: время начинает измеряться
механически. У самого Анаксимандра механическая символика лишь с трудом
врастает в органическую – дерево постепенно перерастает в сферу. Он «говорил, что при зарождении этого мира из
вечного выделилось животворное начало теплого и холодного, и некая сфера из
этого пламени облекла окружающий Землю воздух, как кора – дерево. А когда она
разорвалась и замкнулась в кольца, возникли Солнце, Луна и звезды» [[29]].
И тем не менее его колесо – первый шаг на пути той механизации космоса, что
отличает античную астрономию.
Чистая сфера утверждается
только в элейской школе – уже как логический, а не эмпирический принцип,
связанный с изучением небес. Вопреки ионийцам, единство мира выводится элеатами
не из однородности пластического материала космоса (воды, огня, апейрона), а из
его недвижности. Образом астрономического бога и завершается становление
философской мысли. Ксенофан прямо противопоставляет его всем прежним мифам: «…Воззревши на небо в его целости, он
заявляет, что единое, вот что такое бог» – сообщает о нем Аристотель
(Метафизика. 1, 5, 986 b 18). Зачиная логику, его последователь Парменид утверждает
шарообразность космоса как образ его самодостаточности: бытие «подобно массе совершенно правильного шара,
повсюду равно отстоящей от центра» [[30]],
потому что оно всегда и повсюду равно самому себе. Мир не храм бога и не творение бога, а есть бог, и «существо божье шарообразно» в том
смысле, что ограничивается лишь самим собой.
Что же касается чувственного космоса, то у элеатов его образ структурно не отличается от пифагорейского. «Вселенная представляется Парменидом как состоящая из концентрических кругов или венцов, которые лежат слоями вокруг земли, расположенной в центре вселенной. Всех их окружает небесная твердь. Промежуточные круги состоят из смеси огня и земли. В самом центре всех сфер царствует великая богиня Правды и необходимости…» [[31]].