Вячеслав Шевченко.
11. Храм.
Аннотация. Из театра
богослужение вернулось в храм, но сцена и зал поменялись местами, как если бы
зрение оборотилось на самое себя.
Колесо пало, побежденное крестом… Борхес.
Античный театр выглядит чудом и по формам своей эволюции. Принято считать, что он озарил небо античности краткой вспышкой – творениями трех великих драматургов-современников[1], после чего непрерывно, на протяжении почти тысячи лет, деградировал – при всех признаках внешнего расцвета. Размывая дистанцию между искусством и «жизнью» он двигался от трагедии к драме и от нее к комедии и фарсу. Эсхил учил человека, каким он должен быть, но уже Еврипид, по его же словам, принимал людей такими, каковы они есть.
Театр – это искусство создания образа жизни, максимально приближенного к ней, отличного от нее лишь
зазором эстетической дистанции. Сотрудничество на сцене подлинной жизни с
вымышленной делает театр местом борьбы за реальность. Поэтому он так легко
превращается в свою противоположность – в генератор иллюзий.
Из государственного театр превращается в дело частное и очень прибыльное: массы жаждут хлеба и зрелищ. Античная драма тонет в зрелищной индустрии. Бой гладиаторов, травля зверей и христиан в цирке – жизнь, «как она есть», – не нуждаются в драматургии, а пантомимы и ансамблевые танцы не требуют даже текстов. Сцену оккупируют балаганные мимы. «Своей огромной популярностью мим был обязан не столько авантюрным, сенсационным, эротическим сюжетам, повторявшимся из века в век, сколько разнообразию постановочных средств, обилию вставных номеров, акробатических и танцевальных, древнему обаянию буффонады»[2]. Закат Рима озарялся обаянием первобытности.
Деградировал не только театр, но и культ, его породивший: театры опустошали храмы. Умы, духовно страждущие и ропщущие, видели реальность разорванной между театром, все менее отличимым от жизни, и храмом, все более от нее отвлеченным. Чем более зрелищным становился мир, тем больше накапливалось в нем энергии невидимого. Снова, как и на заре человечества, психическое начинает теснить физическое, образуя с ним самые невероятные смеси. Суеверия, все виды публичной и домашней магии, становятся нормой жизни. И эллины, и иудеи, оказывается, жаждут не просто зрелищ, но чуда.
Философы соорудили из новооткрытого мира идей предмет нового культа: явление этого мира в потоке вещей они и почитали за чудо[3]. Формы такой эпифании они, как могли, контролировали, предписывая геометрические каноны астрономам, архитекторам, художникам и прочим умельцам – профессионалам по части подражания идеальному. А для полноты его воплощения они замыслили тотальную трагедию – чудесное идеальное государство, способное приобщить к идеальному строю вещей человека с улицы.
Но его уже приобщали к
чудесному пророки и маги. Возвращаясь к жизни, вымысел и ее озарял божественной
аурой. «Многие безвестные личности –
сообщает Цельс – в храмах и вне храмов,
некоторые даже нищенствующие, бродящие по городам и лагерям, очень легко, когда
представляется случай, начинают держать себя как прорицатели. Каждому удобно и
привычно заявлять: «Я – бог, или дух божий или сын божий. Я явился. Мир
погибает и вы, люди, гибнете за грехи. Я хочу вас спасти. (…)». К этим угрозам
они добавляют непонятные, полусумасшедшие, совершенно невнятные речи, смысла
которых ни один здравомыслящий человек не откроет; они сбивчивы и пусты, но
дураку или шарлатану они дают повод использовать сказанное, в каком направлении
ему будет угодно»[4].
Стало быть, если определено направление, угодное смыслу, то дело не за внятностью его выражения. «Деяния апостолов» рассказывают, как в Малой Азии Павла с Варнавой приняли за Зевса с Гермесом и изготовились принести им жертвы. Не речь проповедников, которую ликаонцы понимали плохо, но и сам их облик внушил аборигенам, что «боги в образе человеческом сошли к ним». Чтобы доказать народу, что они подобные им человеки, апостолам пришлось разрывать на себе одежды (Деяния. 14. 34). Поздняя античная литература перенасыщена сообщениями о чудесах, творимых не только на периферии ойкумены, но и на городских площадях[5].
Вслед за театром смешивается с жизнью наука: в Риме она творит чудеса могуществом инженерии, в Александрии – силами магии. Дракон хореи возвращается змеем «Лаокоона».
Философы, как мы видели,
математически обработали форму первобытной хореи и спроецировали ее – как явь
дедукции – обратно на небо с точностью, достаточной для астрономических
предсказаний. В космосе они заполучили «умный» предмет, созерцание коего
приравняли общению с божеством, превосходящим всех древних богов во всех
отношениях. У эллинов, и только у них, рациональное совпало с благим и
прекрасным. О правильных или «космических» многогранниках Платон учил, что «нет
видимых тел более прекрасных, чем эти» (Тимей. 53с). Но и Аристотель
возражал тем, «кто утверждает, что
математика ничего не говорит о прекрасном или благом. На самом же деле она
говорит прежде всего об этом и выявляет его. Ведь если она не называет его по
имени, а выявляет его свойства и соотношения, то это не значит, что она не
говорит о нем. А важнейшие виды прекрасного – это слаженность, соразмерность и
определенность…» (Метафизика. 1078а.
34-40). Поэтому в зримом облике небес воспринималась лишь математически внятная
форма: из всего пантеона богов выжили одни – планетные, а из всех их движений –
только орбитальные.
Но обожение космоса принижало человека – и его тело, что не вписывалось ни в одну из совершенных фигур, а более всего душу, бесприютную в хозяйстве небес уже по своей безвидности.
Планетные колеса, небесные сферы и звездные хоры ничего не говорили человеку с улицы. Перевести их с математического на обычный язык и подрядилась астрология. Звездочет принял на себя роль святителя, доводящего благость небес до непосвященных. Впрочем, и астрология, помогая человеку в разрешении сиюминутных задач, не умела, да и не могла сказать, чего хотят от людей «вертикальные звезды». Космос все более напоминал «черную дыру» – пещеру – даже платоникам, замыкающими круг античной мысли изъяснением поэтических прозрений Гомера.
Но дело театра не могло кануть бесследно: энергии, им расточаемые, преобразили внутренний человеческий быт. Если есть слова, способные резюмировать опыт тысячелетней эпохи, то их следует искать у Марка Аврелия[6]. Обозревая плачевное состояние человечности, Аврелий видит спасение единственно «в том, чтобы беречь от глумления и от терзаний поселенного внутри гения – того, кто (…) ничего не делает произвольно или лживо и притворно»[7]. Дело античной культуры состояло в том, чтобы демонов (гениев) человека, поражавших героев Гомера снаружи, «поселить внутри».
«Размышления» императора-философа завершаются прямым призывом к читателю – чтить закон театра и не роптать, когда его отзывают с подмостков. «Человек! Ты был гражданин этого великого града. (…) Что же тут страшного, если тебя высылает из города не деспот, не судья неправедный, но введшая тебя природа? (…) Так уходи же кротко, ведь и тот, кто тебя отзывает, кроток»[8].
Уже на исходе античности человек (на всех уровнях социальной иерархии – от раба Эпиктета до императора Аврелия) ощущает себя на арене театра, более обширного, чем полис. Он чувствует себя гражданином не города, но мира[9]. Даже оставаясь «наедине с собой», он ощущает невидимое присутствие высшей зрячей силы – оставалось сделать ее зримой.
Но как должен выглядеть город всех городов (в отличие от Рима), театр всех театров (в отличие от Колизея), храм всех храмов (в отличие от Пантеона)? Как может выглядеть Единое со стороны созерцательной единицы? Направление поиска указал Плотин, определив чудо как зримое участие единого в судьбе единственного, а смысл – как «созерцание в качестве созерцаемого»[10].
Решение, найденное христианством, было настолько радикальным, что от него, как от нулевой отметки, доныне отсчитывается историческое время. Но нас занимает не историософская, а символическая форма этого решения, воплощенная в устроении христианского храма.
Первичная функция храма – приобщение человека к вечности. Храм – это место, где биологические акты жизни (рождение, бракосочетание, смерть) освящаются: причащаются жизни всех других людей и, в конечном счете, единству человечества. Поэтому с формальной точки зрения создание храма – это задача на построение части мира, символически эквивалентной целому.
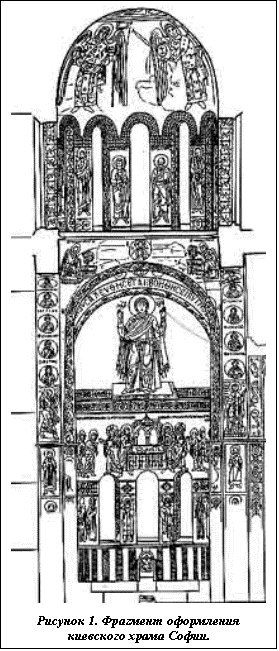 Начнем с пространственной организации
средневекового храма
[11]
. Все христианские церкви указывают своей алтарной
частью на Восток, где находилась, по тогдашним представлениям, Голгофа и откуда
ожидалось второе пришествие Христа. Внутри храма этот символический вектор
порождает горизонтальную ось симметрии, соединяющую вход с алтарем – символом
места казни Христа, гроба Господня и Рая. Вертикаль, пронзающая центр купола,
служит второй осью, организующей композицию храма, – вдоль нее земное пространство,
представленное прямоугольным объемом церкви, перерастает в небесное, символизированное
сводом. Особенно сильно выражена вертикаль в крестово-купольном храме с центральной
симметрией, характерной для восточных церквей. На Западе преобладала базилика
– вытянутое в плане здание с подчеркнутой горизонтальной осью, отвечающей
идее земного «пути».
Начнем с пространственной организации
средневекового храма
[11]
. Все христианские церкви указывают своей алтарной
частью на Восток, где находилась, по тогдашним представлениям, Голгофа и откуда
ожидалось второе пришествие Христа. Внутри храма этот символический вектор
порождает горизонтальную ось симметрии, соединяющую вход с алтарем – символом
места казни Христа, гроба Господня и Рая. Вертикаль, пронзающая центр купола,
служит второй осью, организующей композицию храма, – вдоль нее земное пространство,
представленное прямоугольным объемом церкви, перерастает в небесное, символизированное
сводом. Особенно сильно выражена вертикаль в крестово-купольном храме с центральной
симметрией, характерной для восточных церквей. На Западе преобладала базилика
– вытянутое в плане здание с подчеркнутой горизонтальной осью, отвечающей
идее земного «пути».
Этими двумя осями, задающими меру значимости предметов, собранных в сакральном пространстве, определяется организация всей системы храмового убранства. По вертикали в ней ясно различаются три зоны распределения изображений[12].
В верхней зоне (купол, барабан, конха апсиды) размещаются фигуры наивысшей значимости: Христос, часто в виде Пантократора, Богоматерь, ангелы, а также центральные события Священной истории: «Сошествие святого духа» и «Вознесение». На четырех парусах основного свода часто изображались евангелисты – главные посредники между вечностью Бога и временем человека.
В средней зоне (рукава барабана, тромпы, ниши, верхние части стен) размещался «монументальный календарь» – праздничный цикл из 12 сюжетов, представлявших основные события земной жизни Христа («Рождество», «Введение в храм», «Сретенье», «Крещение», «Распятие» и т.д.) и образующих на этом ярусе замкнутый круг.
В нижней зоне располагались, тоже в календарном порядке, образы, символизирующие историю церкви: святые, мученики, святители, монахи, воины церкви. У выхода, на западной стене храма, часто размещался «Страшный суд».
Разумеется, при великом разнообразии храмов эта общая схема может варьироваться. Но внутреннее пространство храма всегда выражает христианские представления о строении времени. Купол с его вневременными персонажами символизирует вечность. Западная и восточная части храма, изображавшие соответственно Сотворение и Конец света (Страшный суд), переводят вечность во время истории. Месяцы земного времени размечаются праздничным циклом среднего яруса, дни недели различаются церковными службами[13], а колокольным звоном размеряются дневные часы – внешнее время мирян. Всякий момент настоящего соотносится с целокупностью вечности.
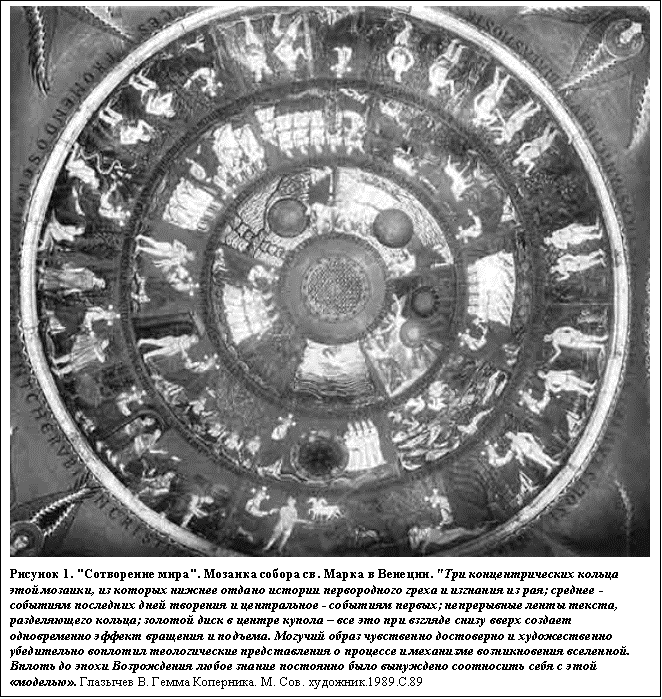 В целом эту иерархию замкнутых изобразительных
поясов можно представить как последовательность вложенных друг в друга монументальных
календарей, размечающих время
священной, церковной и мирской истории. Их функцию можно уподобить современному
планетарию, придающему наглядность нашим представлениям о космосе,
но также музею, экспозиция которого строго следует порядку истории.
А в целом это система, определяющая смысл каждого образа его местом в целом.
Показывая вместе с числом времени его человеческий смысл, этот планетарий-музей
являет собой «небо культуры» – вечность, многоярусная эманация
которой в пространство храма позволяет различать все ее смысловые «части»
– вплоть до мельчайших: часов мирского обихода.
В целом эту иерархию замкнутых изобразительных
поясов можно представить как последовательность вложенных друг в друга монументальных
календарей, размечающих время
священной, церковной и мирской истории. Их функцию можно уподобить современному
планетарию, придающему наглядность нашим представлениям о космосе,
но также музею, экспозиция которого строго следует порядку истории.
А в целом это система, определяющая смысл каждого образа его местом в целом.
Показывая вместе с числом времени его человеческий смысл, этот планетарий-музей
являет собой «небо культуры» – вечность, многоярусная эманация
которой в пространство храма позволяет различать все ее смысловые «части»
– вплоть до мельчайших: часов мирского обихода.
Главное отличие
христианского храма от античного состоит в его зримой «космичности»[14].
Храмы античности так и остались монументальными шкатулками для хранения
божеств, хранящими во всей чистоте образ погребальной камеры. Тому же образу
были обязаны и первые христианские святилища: «Саркофаг с горящими на нем семью свечами стал прообразом алтаря
западнохристинского храма»[15]. Ранняя христианская базилика
воспринималась как ковчег, «корабль церкви», плывущий по волнам истории[16].
Однако уже в Византии идея корабля замещается идеей космоса – но космоса уже не
в наличном его состоянии, отчужденном от человека, но преображенного в
явление вечного смысла. Храм трактуется как символ одухотворенного мира,
прообраз или проект грядущего его обожения[17]. Иоанн Геометр писал о
константинопольском храме: «Если
существует некое слияние противоположностей всего мира, дольнего и горнего, –
оно здесь»[18].
Внешнее свое выражение эта космичность нашла в крестово-купольном храме – столь же характерном для «классики» средневековья, как для античности колоннада периптера. Однако дело не столько в архитектоническом подобии купола небосводу, сколько в художественном его оформлении. Даже плоское изображение мозаики Сан Марко позволяет почувствовать, насколько богатое содержание она собою стягивает. Мылимо ли подобным образом собрать богов Олимпа? Глядя на звезды, обычный пастух мог припомнить все свои мифы: небо служило ему естественной мнемонической системой. Но небосвод античности напоминает палимпсест пещерных художников, где один рисунок наносился поверх другого так же, как на старом пепелище разжигался новый огонь. Стоит сравнить античные изображения неба – с мифологической пестротой и неразберихой сюжетных узоров, нанесенных на него многовековой фантазией Греции – с мощью этих изобразительных поясов, стягивающих все образы в единство, чтобы увидеть в ней совершенно новую художественную систему, не имеющую аналогов ни в предшествующей, ни даже в последующей истории. Она более космична, чем роспись Микеланджело, растекающаяся по потолку Сикстинской капеллы.
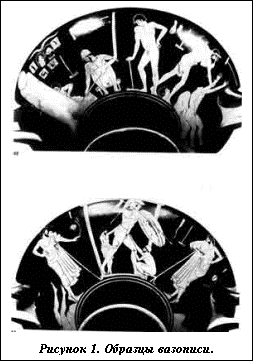 Если что и напоминает структуру купольных
мозаик, подобных Сан-Марко, так это античные вазы. Их облик явственней,
чем вид античного храма, ассоциируется с космосом; возможно потому, что они
выполняли – по крайней мере в истоках – сакральные функции
[19]
. Вазопись архаики поражает цельностью ритмически
организованного и пластически замкнутого смысла. Сосуд в плане – это система
концентрических окружностей с центром в темной горловине, а с фасада – иерархия
изобразительных ярусов. Как целое – это замкнутая сфероидная поверхность с
акцентированным верхом, допускающая горизонтальные, но не вертикальные или
диагональные расчленения; такая форма прямо ассоциируется с античным представлением
о космосе как статуарно замкнутом теле. Не случайно для Аристотеля именно
сосуд был прообразом понятия «топос». Подобно античным храмам, топологически
им эквивалентным, вазы всецело «внешни» – рассчитаны, как глобус, на внешнее
обозрение, оставляющее внутреннее содержание потаенным. Открытые же сосуды
античности заставляют вспомнить о чаше амфитеатра.
Если что и напоминает структуру купольных
мозаик, подобных Сан-Марко, так это античные вазы. Их облик явственней,
чем вид античного храма, ассоциируется с космосом; возможно потому, что они
выполняли – по крайней мере в истоках – сакральные функции
[19]
. Вазопись архаики поражает цельностью ритмически
организованного и пластически замкнутого смысла. Сосуд в плане – это система
концентрических окружностей с центром в темной горловине, а с фасада – иерархия
изобразительных ярусов. Как целое – это замкнутая сфероидная поверхность с
акцентированным верхом, допускающая горизонтальные, но не вертикальные или
диагональные расчленения; такая форма прямо ассоциируется с античным представлением
о космосе как статуарно замкнутом теле. Не случайно для Аристотеля именно
сосуд был прообразом понятия «топос». Подобно античным храмам, топологически
им эквивалентным, вазы всецело «внешни» – рассчитаны, как глобус, на внешнее
обозрение, оставляющее внутреннее содержание потаенным. Открытые же сосуды
античности заставляют вспомнить о чаше амфитеатра.
Семантику ранних ваз определяет не только их сакральность – предназначенность для посмертного пребывания душ. Важно и действие еще живых образов, навеянных формированием сосуда на гончарном круге и его обжиганием в огне. Технического происхождения и сама концентрически замкнутая форма вазы как тела вращения[20]. Не эти ли технологические метафоры питали представления о «примо мобиле», вращающем небесные сферы, или о естественном месте огня на крайней сфере небес? С другой же стороны, погребальная ваза – это искусственное тело души. По технологии ее создания трактуется изготовление самого человека: демиурги действуют как гончары, лепящие его из глины и обжигающие в огне.
Средневековому богомазу, расписывающему своды храма, в качестве столь же априорной основы дана структурно противоположная форма – вогнутая поверхность. Чем значимее изображение в системе сакральных ценностей, тем более искривлена его основа. Поэтому средневековое воображение обживает внутренность сферы. По отношению к такому космосу художник находится целиком внутри. Границами живописных изображений служат внутренние расчленения самого храма. Поэтому синтез всех изображений осуществляется посредством несущей «основы» живописи, то есть архитектуры. Вогнутая форма купола столь же естественно собирает изображения, как их разделяет выпуклость вазы[21].
Мозаика Сан-Марко изображает «архе», развернутое в сотни сюжетов, но стянутое совершенной геометрической формой. Даже не зная наименования мозаики, не вглядываясь в ее сюжеты, можно сразу узнать в ней образ творения. Форма излучения, эманации единого смысла манифестируется здесь так же ясно, как в малом пространстве цветка (того же буддийского лотоса), но с несравненно большей энергией.
Концентрических форм нет, например, в константинопольской Софии. Но о входящем в этот храм патриарх Фотий (9 век) писал, что тот вступает словно «на небо (…) и осиянный многообразными, со всех сторон открывающимися, подобно звездам, красотами, он остается зачарованным (…). Все остальное представляется ему пребывающим в волнении, и святилище /кажется как бы/ вращающимся. Ибо то, что всестороннее разнообразие созерцаемого заставляет пережить благодаря всякого рода поворотам и продолжающимся движениям, это переносится силой воображения из собственного переживания на созерцаемое»[22]. Когда в следующем веке послы Владимира вспоминали о богослужении в этом соборе, они не знали, как сообщает источник, были они на земле или на небе[23].
Чтобы ощутить купол как небо, достаточно, пишет Иоанн Геометр, взглянуть «наверх на часть золотой сферы, испускающей великий свет, к которой сходятся цвета всех камней, как бы слагающих единое завершенное тело, звездное и всесветлое, повисшее вверху». Фотография не может передать «метафизических» эффектов мозаики, играющей с трансцендентностью света. На вогнутых криволинейных поверхностях смальта не столько отражает, сколько излучает свет, вынося священные образы в физическое пространство храма. «Трансцендентность света в мозаике усиливается еще и тем, что это свет, не дающий теней… В средневековых мозаиках нет мрака. Темно-синие фоны ранних римских и византийских мозаик должны обозначать и изображать не тьму, а свет, небо»[24]. В дальнейшем фоном служит позолота – овеществленный свет. «…Золотой фон не имеет глубины и не допускает ее. Поэтому в сочетании с вогнутой сферической поверхностью золото фона оптически «выносило» помещенные на нем изображения в реальное, но самим золотом уже преобразованное в «метафизическое» пространство»[25]. Размывание границы между физическим и сакральным пространством, охватывающим прихожанина атмосферой святости, и является архитектурным началом той живописной перспективы, которая получила название «обратной». Художественное пространство не развивается вглубь, а развертывается на зрителя. Эта перспектива служит единственно тому, чтобы собрать все «умные силы» мира на человеке.
Когда византийцы называли
свои храмы «бестелесным и духовным
театром», прежде всего они разумели их архитектурно-живописное убранство.
Но театрализованным было и богослужение, вовлекающее прихожанина в драму «встречи двух миров».
Социальные роли снимались при входе, как головные уборы. Пахарь после жатвы, воин после битвы, купец после (или до) странствия входили внутрь произведения искусства. Оно развертывалось архитектурными сводами, испещренными иконным письмом и вовлекало прихожанина в таинство богослужения. Здание охватывало его амфитеатром зримых сил и помещало в самый исторической драмы. Эта драма вовлекала в себя средствами не только архитектуры и живописи, и не только драматургии, поэзии и музыки, но также символической парфюмерии и гастрономии – запахом кадила, к примеру, или вкусом хлеба и вина. Ангажированы все органов чувств – синестетичность образов, их чувственная размерность достигли предела. Этот образный натиск совершенно растворял отдельного человека в напряжении сил космического масштаба, превосходящего всякое индивидуальное разумение. Если это и книга, то книга говорящая, звучащая, цветовая, осязаемая на запах и вкус – ее письменам нельзя возразить ни на каком языке, поскольку они обращаются ко всем чувствам разом.
В храме собраны все энергии космоса, принявшие человеческий облик – все устроители, держатели и движители мира – участники грядущего Суда. Человек ощущает себя в символическом поле всех сил мира, стянутых на нем. Если это и театр, то театр «навыворот»: вы не в амфитеатре, а на арене. Не только вы видите «умные силы» космоса – они тоже вас видят. И знают о вас больше, чем вы сами. Предстояние им допускает лишь исповеданье и моленье; эти микроаналоги Страшного суда вынуждают человека уразуметь все содеянное или замышленное им в терминах «вечной жизни»[26].
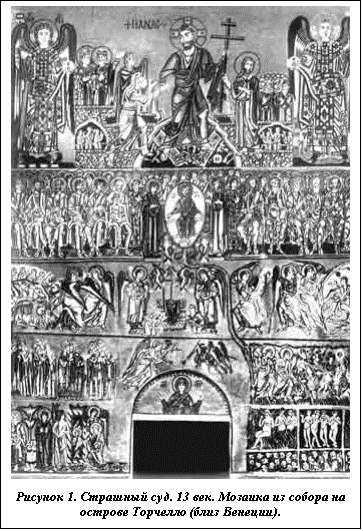 Где ранее нам встречался амфитеатр, развернутый
на зрителя? Иерархию изобразительных поясов можно найти в гробницах Египта
и на вазах античности – однако там образы жили собственной жизнью,
выясняя отношения друг с другом. Здесь все они собраны в систему, развернутую
к человеку лицом. Что означают картины Страшного суда, как не полное обращение
смысловой перспективы? Что означают эти яруса зрящих («облака
свидетелей»), как не инверсию античного театра – возвращение человека
на положенное ему от века место?
Где ранее нам встречался амфитеатр, развернутый
на зрителя? Иерархию изобразительных поясов можно найти в гробницах Египта
и на вазах античности – однако там образы жили собственной жизнью,
выясняя отношения друг с другом. Здесь все они собраны в систему, развернутую
к человеку лицом. Что означают картины Страшного суда, как не полное обращение
смысловой перспективы? Что означают эти яруса зрящих («облака
свидетелей»), как не инверсию античного театра – возвращение человека
на положенное ему от века место?
Мы видели, что представления эллинов о космосе, никак не выраженные в архитектуре их храмов, отразились в строении их театра. Если при зарождении античной сцены это происходило бессознательно, то на исходе античности Витрувий планирует римский театр, прямо ссылаясь на схемы астрологов[27]. Античный театр не имел купола – к образу космоса он отсылал лишь строением зала. Чтобы представить происшедшую анаморфозу, нужно вообразить, как чаша амфитеатра, обращенная к небосводу как его негативное отражение, переворачивается и накрывает собой зрителей. Люди остаются на арене, а яруса театра наполняются идеальными зрителями – небожителями, все интересы которых сосредоточены на сцене. Там, где снова осуществляется род хореи, соединяющей зрителей и участников богослужения празднеством творения мира..
Итак, из театра богослужение вернулось в храм, но в каком виде? Зал и сцена поменялись местами, как если бы зрение оборотилось на самоё себя.
Занимая место в амфитеатре, гражданин полиса видел пустую сцену, постепенно заполняемую ожившими масками богов и героев. Входя в христианский храм, прихожанин встречает небесное воинство смотрящим в упор на него.
Человек в храме видит, что его видят. Ярусами амфитеатра расположились зрящие – иконописные лики «сил небесных», – и конусы их зрения сходятся на нем. Он – в поле знающего зрения, каким он сам видит себя. Прихожанин в храме – не просто участник ритуала. Он видит службу, но видит также устремленную на него иконопись, и именно к ней, а не к водителю ритуала, обращается с неслышной молитвой. По отношению к иконописным ликам он оказывается в ситуации актера на сцене (гладиатора на арене) – того, кого видят, и видят так, как он сам себя видит в минуты высшей ясности[28].
Античный зритель мог и
должен был идентифицировать себя с актером – но в известных пределах,
положенных Аристотелем в теории катарсиса. Августин снимает эти пределы: он
видит мир с арены и взывает к всевышнему как к свету оному из оной тьмы. Все
помыслы свои он поверяет Богу, поминутно осматриваясь: не утаил ли чего? «В глазах Твоих я стал для себя загадкой».
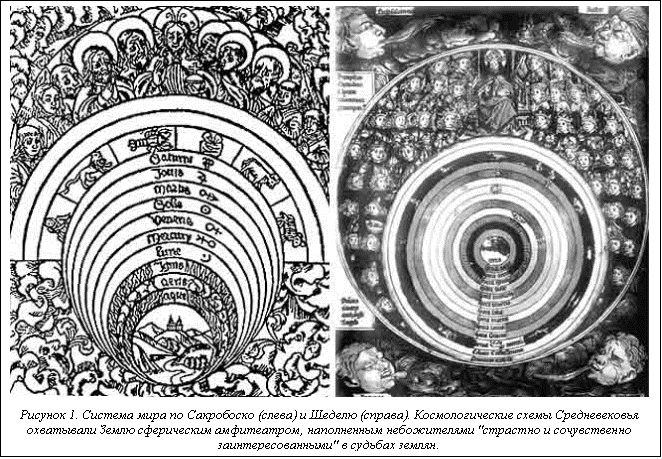 Гачев описывает подобную ситуацию как явление
совести. «Тогда, в моменты совести и
сознания, я ощущаю, что мир, всевышний свет взирает на меня, а движения моей
души, нервов, страстей ему не только ведомы, но и мои фибры – это кончики
нервов и лучей мира»
[29]
. Так должен сознавать себя человек на
сцене. Но ведь такой же сценой представал средневековому человеку весь его
мир (рис.5) Не только в храме, но и за его пределами он не остается наедине с собой – живет во всепроницающем поле божественного
зрения.
Гачев описывает подобную ситуацию как явление
совести. «Тогда, в моменты совести и
сознания, я ощущаю, что мир, всевышний свет взирает на меня, а движения моей
души, нервов, страстей ему не только ведомы, но и мои фибры – это кончики
нервов и лучей мира»
[29]
. Так должен сознавать себя человек на
сцене. Но ведь такой же сценой представал средневековому человеку весь его
мир (рис.5) Не только в храме, но и за его пределами он не остается наедине с собой – живет во всепроницающем поле божественного
зрения.
Та же ментальная форма
отражена в малом подобии храма – иконе. Картина выделяет из текущего мира
жизненно важное событие и тем самым по-своему его сакрализует – делает эмблемой
непреходящей реальности. Икона же есть чудо и изображает «чудо» как событие
самого зрения – прозрение. Она являет либо Бога в его ипостасях, либо лиц, ему
предстоящих – тех, внутреннему зрению которых вот сейчас, на наших глазах,
открывается истина. Изображается то же событие, к какому призывается верующий. Он
видит видящего и тех, кто Его (поистине) видит. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же
лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан»
(1 Коринфянам. 13).
В этом смысле домашняя икона продолжает на малой арене дело храма. Памятуя об изначальном родстве смысла со светом, проще всего представить ее функцию освящения быта как освещение мирского пространства. В дом вносят и утверждают в его «красном» углу предмет, излучающий свет вечный, а перед ним воздвигают лампаду с физическим светом. Первый озаряет душевную, второй – телесную жизнь.
Икона в быту служила таким же ставленником всепроникающего социума, таким же воплощением его неусыпного ока, как нынешний телевизор. В средства массовой информации и переместилась схватка небесного и адского воинств. Зримые образы культуры (движители, порождающие модели, жизненные проекты) излучает экран, в опереточном блеске коего мы так безнадежно блекнем. Отличие его от иконы разве что в том, что он нас (пока что) не видит: не нужно набрасывать на него платок, прежде чем согрешить. И все же свою ситуацию в мире вы оцениваете всевидящим оком, «острым глазком» экрана.
От античного христианский
храм разительно отличается уже своим внешним видом. И все же его внешний облик
– лишь выражение, и притом довольно скупое, внутреннего богатства. «Купол святой Софии так величествен потому,
что архитектурный организм, который он охватывает собой, полон гораздо более
богатой внутренней жизни, чем, например, Пантеон»[30].
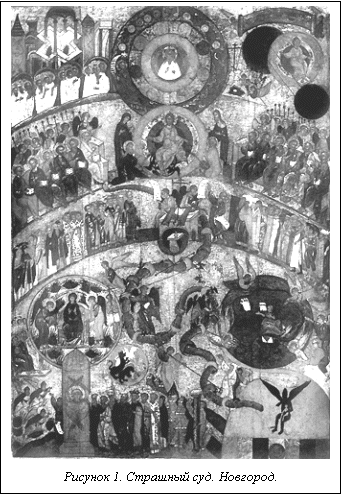 Ориентацией в мировом пространстве, построением
композиционных осей, формами расчленения внутреннего пространства, системой
распределения изображений, драматургическими средствами богослужения – всей
логикой своей организации и своей энергетикой храм воспроизводил осмысленный
космос. Все выглядит так, словно вы собрали все умопостигаемые сущности
в единораздельную – предельной смысловой концентрации – целость, а
затем «спроецировали» ее на внутреннюю поверхность здания, расчленяя его изнутри,
как делает это зерно, устрояясь в растущем дереве. И получили изобразительную
архитектуру, явленный изнутри нее смысловой «сферос». Символ осмысленной вселенной,
свидетельство воплотимости Слова.
Ориентацией в мировом пространстве, построением
композиционных осей, формами расчленения внутреннего пространства, системой
распределения изображений, драматургическими средствами богослужения – всей
логикой своей организации и своей энергетикой храм воспроизводил осмысленный
космос. Все выглядит так, словно вы собрали все умопостигаемые сущности
в единораздельную – предельной смысловой концентрации – целость, а
затем «спроецировали» ее на внутреннюю поверхность здания, расчленяя его изнутри,
как делает это зерно, устрояясь в растущем дереве. И получили изобразительную
архитектуру, явленный изнутри нее смысловой «сферос». Символ осмысленной вселенной,
свидетельство воплотимости Слова.
Как опредмеченное Откровение, храм служил «библией неграмотных». Но только ли неграмотных? Это Библия, что заново переписывалась историей и впитывала ее в себя. Храм – это живое, растущее Писание, переводящее Слово в живую жизнь, а жизнь – в образ[31]. В отличие от однажды записанного слова, склонного стынуть догмой, он дышит историей. В Писании, например, ничего не сказано об истории христианства – значит ли это, что о ней можно забыть? Резные изображения святых, замечал Лихтенберг, больше сделали для церкви, чем сами святые.
Средневековое познание – это искание лика божьего – облика тех первооснов бытия, что делают из нас человеков. Поэтому мироздание «раскладывается» не на частицы, а на ипостаси (лики). Всеобщие нормы культуры храм претворяет в образы идеального человека – прообразы реальных людей. Не икона уподобляется человеку, но он иконе: священный образ человека не отражает, а порождает его[32].
Это решение опиралось на
неоплатонизм – учение о мировом процессе восхождения душ к предвечным идеям.
Участие в нем возможно только через уподобление. Плотин учил, что глаз, чтобы
видеть Солнце, должен был уподобиться Солнцу – стать солнцеподобным. Виденье
сущности есть приятие ее формы.
«Очевидно, что когда увидишь бестелесного, ради тебя сделавшегося человеком,
тогда сделаешь изображение его человеческого образа»[33].
Это ответ на вопрос о способе освоения сущностей, логически не постижимых. Рано или поздно вы перестаете доказывать и просто показываете, – на стрелку прибора или на дерево под дождем. Устроители церкви показывали на иконы. Мыслители греческой патристики предпочитали говорить не о доказывании, а о показывании истины. Отцы церкви вполне оценили способность искусства доносить до человека не вполне «понятную», не выразимую только в словах информацию о сокровенном: «философия, которая проявляется в мелодии, есть более глубокая тайна, чем о том думает толпа» (Григорий Нисский)[34]. Икона, по Иоанну Дамаскину, служит «для путеводительства к знанию, для откровения и обнародования сокрытого…». Непостижимое, что нельзя высказать, можно тем не менее видеть и слышать, можно осязать, «вкушать» – вот основа церковного богослужения, обращающего гносеологию в литургию. Познание замыкается на литургический гнозис.
Искушенные театром, мы понимаем богослужение как своего рода «спектакль» – массированное изображение идеального бытия, что разыгрывается в определенное время в определенном месте условно. Из этого и исходит иконоборчество: всякий образ истины есть ее умаление и, стало быть, разновидность идолопоклонства. На самом деле понятие «таинства» радикально меняет ситуацию «зрелища»[35]. Литургия – не образ истины, а истина нашей последней реальности. Это то, что поистине есть, когда кажется, будто кружатся звезды или щебечут птицы. Это то, что невидимо всюду и всегда происходит, а зримым является лишь в храме.
Теорию христианского искусства следует искать у Плотина[36]. У него же можно найти описание «тамошнего», неведомого классической античности, мира.
«Жизнь прекрасна Там; и этим божественным существам истина есть и мать,
и кормилица, питание и существование, и видят они все не как процесс, а как
подлинное бытие, и видят себя во всем; потому что все прозрачно, нет темноты, и
нет противоречия; каждое существо ясно для другого, в глубину и ширину: свет
проходит сквозь свет. И каждое из них содержит внутри себя все, и в то же время
видит все в каждом другом, так что повсюду есть все, и все есть все и каждое
все, бесконечная череда возвышенного. Каждое из них велико, и малое велико;
Солнце там объемлет все звезды, и каждая звезда, в свою очередь, объемлет
звезды и солнце. И хотя некоторые формы бытия доминируют в каждом существе, все
они отражаются друг в друге»[37].
Какую реальность имел в виду Плотин под именем «тамошней»? Мы называем ее «внутренней» реальностью, христианство же именовало это «бестелесное бытие многообразных мыслей, объемлющее логосы мирового целого, но притом одушевленное и как бы живое»[38] Софией. Христианским храмом она облачилась предметно.
Это высочайший
синтез, какой когда-либо достигала культура в стремлении связать все свои
символические формы. Это предметность плотиновского «сфероса» – с тем лишь
различием, что она являет очеловеченный космос
– историю. Это та «форма форм», какую методически описывал Кузанец – прообраз
всех метафизических экстраполяций средневековья в нашу науку. К нему же
восходят и наши утопии, не говоря уже о менее напряженных замыслах типа
астрологии, алхимии или логистики Луллия. В новоевропейской культуре нет
проекта, который так или иначе не восходил бы к нему: вся история этой культуры
может быть описана как дифференциация единства, изначальным воплощением
которого стал христианский храм. Мечтания о Gesamtkunstwerk или
Glassperlenspiel, равно как упования тотального синтеза науки с искусством –
дальние отсветы однажды уже достигнутого единства.
Если самостийные силы эмансипированной
культуры когда-нибудь еще сойдутся «в радостном равенстве» сторон одного
предмета, то им снова станет органическое, единство планетария – музея – театра.
Равномощное Слову, оно призовет
всех единственных к личной ответственности за его исполнение.