Вячеслав Шевченко. НАУКА МУЗЫКИ
Аннотация. В Средневековьи музыка была
столь же научной, как живопись Ренессанса.
Культ глаза в Ренессансе – общеизвестный факт; он знаменует
возрождение античной культуры, как культуры преимущественно визуальной,
обживающей эйдетику пространства. Похвальное слово глазу можно найти у всех у
всех идеологов новой культуры [1]. Окрыленный глаз, избранный Альберти
своей персональной эмблемой, может служить символом всего Ренессанса.
Но культ глаза не был бы столь программным, если бы
ему не противостояла мощная традиция, – тем более сильная, что не всегда была
осознанной. Зримое противопоставлялось слышному
– будь то музыка или слово [2].
Фичино учил, что глаз открывает истину, а слух – только усваивает. Слову отказывают в прежней силе. Но
главное острие гносеологического культа глаза направлено, хотя и не всегда
явно, против музыки. Даже в ней вскрывается зримая пластическая основа: «пляски и все изгибы тел сводятся к жесту,
который есть корень музыки»[3]. Мусический род искусств уступает
пластическому.
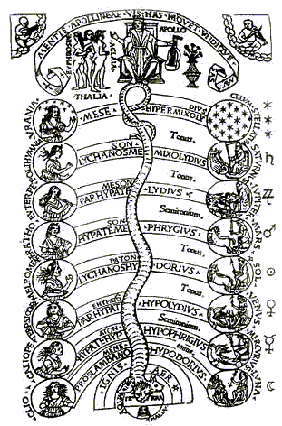 |
Классификация музыкальных дисциплин,
установленная в это время Боэцием и разделившая музыку на мировую, человеческую
и инструментальную, прошла через все средневековье. «Мировая музыка» выражает все ритмы мира: пропорции во вращениях небесных
сфер, соотношения времен года, порядок стихий и элементов – всю организация
мира во времени [4].
«Человеческая музыка» (ритмика человеческой жизни) отражает этот всепроникающий
мировой поток в «микрокосм» человеческого тела. В отличие от античной «музыки
сфер», это – нововведение средневековья, смысл которого был совершенно внятным
для современников Боэция: «А что такое
человеческая музыка, знает каждый, кто углублялся в себя». И только «инструментальная музыка», призываемая сделать два первые ее рода слышными, оставалась
музыкой в нашем смысле этого слова.
Необычайно место музыки в системе
средневекового знания. В новоевропейской системе наук, упорядоченных по степени
конкретности их предмета, сразу после абстрактной и безвидной логики идет арифметика числовых отношений, которая через
наглядность геометрии выходит на
конкретное естествознание (астрономию, физику, химию)[5].
Придавая числовым отношениям визуальную определенность, именно геометрия со
времен Возрождения соотносит математику с астрономической и, далее, с физической
картиной мира. Однако в Средние века арифметические абстракции математики
конкретизировались – на первом шаге к чувственному миру – не в геометрии, а в
музыке. Свою первичную наглядность математика находила в музыке, прямо
переводящей вселенские ритмы в число [6].
Сначала она обретала акустическую и только затем визуальную внятность. Именно
так представляли себе назначение музыки все средневековые теоретики: предмет
музыки – от Августина до Царлино – это звучащее
число[7].
Если в Новое время между математикой и собственно физикой размещается –
наполняя эмпирическим содержанием чистые математические структуры – оптическая
астрономия, то в Средние века «средней
между математикой и естественными науками», по словам Царлино, была музыка [8].
Таким образом, в средневековой систематике
знания музыка приобрела примерно то же значение, какое Новое время отвело
астрономии. Последняя входила (наряду с музыкой, арифметикой и геометрией) в
состав квадривиума оставаясь притом прикладной дисциплиной, занятой разработкой
календарей, – чистой «хронометрией». Доносить же истину космоса до каждого
человека призывалась музыка. Музицировать значило «отображать» движение космоса
(чья статическая форма являлась небесным глобусом) в звучание инструментов или
в движения человека, настраивая его в лад с теми космическими ритмами, каким подражает лира. Неудивительно, что среди
наук музыку ставили на первое место равным образом и Рабан Мавр, и Фома
Аквинский: «она занимает первое место
среди семи свободных искусств и является наиболее благородной отраслью
человеческого знания»[9].
Только в 15 веке немецкий
теоретик Адам из Фульда выступает с предложением отдать «небесную музыку»
математикам, а «человеческую» – медикам, оставив за музыкантами лишь
«инструментальную», слышную ее разновидность (она же включала вокальную).
Слышал ли кто когда-нибудь «человеческую музыку»? – вызывающе спрашивает
Грохео. Вопрос назревший: на склоне средневековой культуры, уже миновавшей
апогей своего развития, триединство музыки не может далее устоять перед всеобщей
культурной дифференциацией.
В «Трактате о соизмеримости или
несоизмеримости движений неба» Николая Орема спор геометрии (начала иррационального, но зато
визуально внятного знания) и арифметики (начала рационального, целочисленного, но становящегося все менее
наглядным) решает, по существу, судьбу музыки как науки. «Кто удостоит меня взглядом, – спрашивает Арифметика, – если мои числа нельзя применить к небесным
движениям? И если Музыка сводит числа к звукам, то почему Астрономия не может
привести их в согласие со своими движениями? …Итак, наша милая дочь, сладчайшая
Музыка, лишилась бы небесной чести…». Этот трактат, вскрывая всю сложность вопроса, оставляет его до
конца нерешенным, однако в своем знаменитом учении о «конфигурации качеств»
Орем фактически решает его в пользу геометрии. «Движения неба» изымаются из
компетенции музыки и переводятся в веденье астрономии.
Крупнейший математик итальянского Возрождения Лука Пачиоли исключает музыку из числа математических наук и заменяет ее оптикой, мотивируя это тем, что глаз является более благородным и действенным орудием познания, чем ухо.
Получив космос гармонически выверенным,
математики продолжили дело средневекового мироведенья, но уже в оснащении иных,
оптических инструментов. Прислушиваясь к обещанной древними «гармонии мира»,
Кеплер еще успевает вывести из гармонических пропорций Солнечной системы законы
«Новой астрономии», первым «поверив
гармонию алгеброй». Но музыка
исключается из содружества наук. «…В
ближайшем будущем, – писал
Кампанелла в «Городе Солнца», –
ожидают изобретения подзорных труб, при помощи которых будут видимы скрытые
звезды, и труб слуховых, посредством которых будет слышна гармония неба»[10]. Тут замечательно не столь убеждение в
объективном существовании мировой музыки, сколь забвение того обстоятельства,
что еще совсем недавно космические гармонии озвучивали трубы органа [11].
Это метафорический цикл завершает М. Марино: И разве не есть наш мир эта разбитая о Землю партитура?.
Нужно видеть, как беспощадно расправляется с
обломками этой партитуры Леонардо да Винчи. «Производит
ли звук трение небес?» – так ставит он вопрос о музыке мира: это,
оказывается, проблема трения.
Совершенно гладкое тело, учит опыт, при трении не производит звука.
Следовательно, если звездные сферы совершенно гладки, то они не звучат.
Допустим обратное: сферы не идеально гладкие и трутся о «материю неба». Но
трение, как известно, шлифует. Тогда за огромное время, прошедшее от сотворения
мира, сферы должны отполироваться. Так что же вы мне рассказываете? Да если бы
они даже издавали звучание, то как бы оно могло распространяться в безвоздушном
пространстве эфира ?[12]
Это и есть отныне знание. Пытая материю символа, Леонардо находит, что она никуда не
годится: Пифагор, Птолемей (а заодно грядущие Герике и Кеплер) излишне
доверчивы к преданиям.
Казалось бы, неслышная чувственным ухом
гармония мира не более парадоксальна, чем невидимая, бесконечно удаленная
«центральная точка» его возлюбленной «перспективы». Телесному опыту она не
дается, но именно ее актуальность придает визуальную определенность и смысловую
насыщенность всем видным точкам мира. Но строй очевидностей изменился
необратимо.
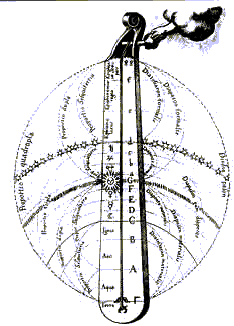
|
В свою очередь, музыканты, утратившие в своем
заметно полегчавшем предмете космологические обертоны, развивают в нем
подчеркнуто «человеческие» смыслы, все более специализируясь на «подражании
природе», то есть на выражении страстей. В трактате «О наслаждении» Л. Валла
заявляет: «…Музыка не доставляет ничего,
кроме наслаждения, и целиком относится к наслаждениям слуха»[13]. Винченцо Галилей, отец знаменитого физика, одним из первых делает
это положение программным: «Цель музыки
состоит в том, чтобы выразить с возможно большей силой душевные движения»[14].
Даже Палестрина характеризуется современниками как великий подражатель природы[15]. «Подражание природе, выражение страстей –
вот что характеризовало в глазах современников музыкальный Ренессанс 16 века»[16].
Искусство же собственно
врачевания человека окончательно переходит к медикам. Отныне они одни блюдут
его биоритмы, исцеляя тело и оставив трудное врачевания душ теологам.
Естественно, что этот разрыв медицины с музыкой мира поначалу компенсировался и
смягчался усилением ее союза с астрологией (см. «Поэтику механизма»).
Итак, средневековью музыка послужила наукой. Значение этого факта сегодня трудно прочувствовать, но только принимая его со всей серьезностью, можно попытаться понять происхождение и оценить значение замысла Леонардо да Винчи и его последователей о науке-живописи. Важно учитывать прецедент: наука однажды уже сходилась с искусством – после того, как всем казалось, что они разошлись навсегда. Феномен науки-музыки не стоит считать недоразумением, не разъясненным более тысячи лет. Только приняв его к сведенью, можно оценить действительную глубину превращений, какие невидимо (для их носителей) происходят во всех регистрах культуры при смене исторических эпох. Нужно видеть, что Ренессанс – это перестройка всей чувственности.
Конечно, союз науки с искусством
осуществлялся не только в музыке. «Божественная комедия» Данте ни в коем случае
не была фактом только искусства – вплоть до завершения Ренессанса никто не
сомневался в ее научной истинности. В год смерти поэта Джованни Виллани писал о
своем соотечественнике: «Он сочинил
«Комедию», где в отточенных стихах разработал весьма утонченно большие вопросы
морали, природоведения, астрологии, философии и теологии…». Ольшки
признавал, что Данте «давал основу
солидной учености, его труд стал библией ученых, из которой черпались тексты,
определявшие содержание лекций (...) «Комедия» Данте была народной книгой и
источником или посредником для всякого знания. Никогда космография не получила
бы такой популярности без «Комедии», предъявлявшей к читателю большие
требования именно в астрономии» [17].
По существу, метафоры «книги мира» и «музыки сфер» возводили
мир в ранг образцового произведения искусства. Только они придавали ему то
эстетическое измерение, что исключалось «первой» книгой – Библией. Человек мог
любоваться чем угодно, но только не евангельским речением или иконописным
образом, созданными для пронзения сердца.
Лишь отождествление бытия с природой открывало путь к постижению мира через
искусство.
До тех пор, пока живы были представления о «книге» и «музыке» мира, постижение природы могло мыслиться лишь как
художественная задача [18].
Другое дело, что она адресовалась поэтам и музыкантам, представляющим свободные искусства, но никак не
художникам, скульпторам, а тем более инженерам. А мы знаем, что возрождение
античной науки было подготовлено, а частью и осуществлено, «универсальными
мастерами» из цеха живописцев. Д. Бернал писал о Ренессансе: никогда еще «изобразительное искусство не имело такого
большого влияния на развитие науки» [19]. «…Возрождение
научных методов совершалось путем перенесения в область мышления всеобщего
применения тех принципов и идеалов пропорциональности, гармонии, внутренней и
внешней законченности, которых Возрождение искало для искусства и нашло в
математике»[20].
Внутри средневековой культуры художник был
лишь исполнителем, но никак не автором замысла. Возвышение художественной
деятельности происходит за счет переноса на нее определений технической практики, внутри которой
только и возможно порождение новой
реальности. Только внутри этой
практики (см., например, Николая Кузанского) вызревала мысль о реальной
возможности улучшения тварного мира. Поэтому нет ничего удивительного, что
именно художники оказались в эпоху Возрождения в центре новой жизненной
практики: эта практика становилась все более технической, а числилась по тому
же классу механических искусств, что и пластические
искусства (архитектура, скульптура, живопись)[21]. К
практическому универсализму художника обязывала средневековая традиция. Новым
был лишь масштаб работ, повышающий требования к точности, математической
выверенности строительных проектов.
Расширение традиционной сферы приложения математики в Возрождение если и не всегда проводилось самими художниками, то было целиком обязано их научным устремлениям [22]. Пачиоли адресует трактат «О божественной пропорции» всем, занимающимся «философией, перспективой, живописью, скульптурой и музыкой». Брунеллески и Альберти, впервые за тысячу лет выводя математику за пределы традиционных применений, пишут свои трактаты для художников. Франчески тоже адресует свою геометрию живописцам, однако его работа имеет значение не только для искусства: она открывает ту серию работ по применению «Начал» Евклида, что завершается «Началами» Ньютона. Он первым «взял геометрию как образец конструктивного и дедуктивного метода» и применил геометрический способ мышления к совершенно новой и неизведанной области.
Дюрер считается не только крупнейшим
художником, но и лучшим математиком Германии своего времени. Стимулирующее
влияние работ Дюрера на развитие новой математики было огромным – их штудирует
и цитирует сам Кеплер. Практическая направленность математических штудий
раскрывается Дюрером в «Руководстве к измерению» при изложении задачи удвоения
куба. «Так как это очень полезное
искусство, которое важно для всех мастеров, но которое содержится в большой
тайне и сокрытости учеными, то я хочу изложить его и сообщить… Таким образом, в
то время как удвоение куба представляет собой искусство, при помощи которого
можно изготовить и увеличить в любом масштабе пушки и колокола, бочки и
сундуки, комнаты и статуи, тайна его известна лишь тем, кто не знает, что с ним
делать»[23].
Однако обращение художников к прикладной математике еще не объясняет, почему они оказались также в центре духовной жизни эпохи. Само обращение художников к науке было важным условием повышения их престижа: еще в 15 веке архитекторы и скульпторы шли по классу «каменотесов», а художники представляли механическое искусство ручного труда. «Альберти пишет свой трактат о живописи с целью возвысить искусство живописи, поставленное в унизительное положение ремесла до положения защитника и глашатая современной ему мысли»[24]. Но как состоялось это возвышение? Центральная перспектива не смогла бы принять на себя те непомерные нагрузки, что ей уготовало Новое время, не вооружись она фундаментальными принципами, преемственными по отношению к музыке.
Математика могла возродиться и обновиться только в гуще живой жизни. Еще до обращения к ней художников она оживлялась купеческим делом, где развивались ускоренные приемы счета, появлялись новые, неведомые античности счетные инструменты. Но эта математика была всецело прагматичной. И хотя ей было суждено великое будущее, первые ее ростки выглядели крайне невзрачно. Подрывая средневековые представления о числе, она не создавала новых форм математической наглядности. Практика ведения деловых книг, сведения дебета с кредитом становилась все более эффективной, но ее теория не умела истолковать высокоэффективные отрицательные числа иначе как изображения «долга» и потому порождала лишь «глухие» и «тупые» числа. В теоретическом мире она не имела никакой разумной интерпретации – кроме разве что той заведомо искусственной числовой геральдики, что вдохновенно разрабатывалась на теоретическом безводье Пачиоли. Можно сказать, что вычислительная математика не имела своей эйдетики.
Напротив, художественная пропорция, в отличие от
бухгалтерской, которую безуспешно пытался возвысить Пачиоли, наследует все
смыслы средневековой музыкальной гармонии. Из умопостигаемой она становится
чувственно внятной: позволяет ввести в математическое мышление новый строй
живых созерцаний и очевидностей. «Гармония
становится метафизическим принципом как «единство противоположностей» уже у
Кузанца, эстетическим каноном у Альберти, законом природы у флорентийских
неоплатоников… В связи с этим усиливается математический интерес к изучению
пропорций на основе убеждения, что математика является то символическим
выражением, то практическим исчислением, но, во всяком случае, общезначимой
нормой этой гармонии в большом и малом» [25]. Еще у Галилея мир наглядных
представлений «выражается в пропорциях и
не разлагается на уравнения»[26]. Даже в 17 и начале 18 века вторую
степень числа все еще называют порой «двойной», а корень квадратный –
«половинной» пропорцией.
Царлино, крупнейший теоретик музыкального Ренессанса, со ссылками на Витрувия еще пытался доказать, что архитектор должен быть музыкантом, иначе он не сможет «со смыслом устраивать машины … и хорошо, музыкально, располагать сооружения» [27]. Однако отсылка к Витрувию не убедительна и не вполне корректна: античный архитектор действительно был устроителем машин, однако баллисты он строил не по гармониям, а по пропорциям, подобным канонам скульптора Поликлета.
Все дело в том, что гармония и пропорция –
это разные по происхождению и по назначению понятия. В «Комментариях к 10
книгам по архитектуре Витрувия» –энциклопедии ренессансной архитектуры – Д.
Барбаро различает пропорцию как главную категорию эстетики и гармонию как чисто
музыкальную форму. Гармония была также космологическим принципом, тогда как пропорция –
чисто математическим (в логике ей соответствует аналогия). Только возведя пропорцию в архитектонический канон,
уподобляющий друг другу космос, здание и человеческое тело, Альберти смог
соорудить синтезирующее понятие «гармонической пропорции», то есть соединить
космологические представления с пластическими, благополучно минуя музыку. А в
зрелом Возрождении Леонардо и Дюрер полностью очистили учение о пропорциях и от
космологических мотивов, превратив его в своего рода «антропометрию».
Альберти называет «пропорциональными» фигуры
с общей мерой. Благодаря пропорции «малый
подобен большому во всем, кроме величины». Зримым воплощением пропорции и
становится «центральная перспектива» как средство переноса геометрического
подобия в пространстве, – главное открытие художников Ренессанса. Учение о
перспективе объединяет живопись с оптикой и геометрией, а теория пропорций – с
анатомией и медициной. А изначальное сродство архитектуры, как всего
инженерного дела, с механикой связывает ее также с учением о тяжести.
Вот почему «флорентийская мысль рождалась в художественной оболочке»: художник превратился, впервые в истории, в
центральную фигуру времени, и Леонардо, открывая своей наукой-живописью «первую очевидную истину вещей», смог
стать учителем «геометров,
перспективистов, астрологов, машиностроителей и инженеров».
Итак, при переходе от средневековой к новоевропейской культуре преемственность ее фундаментальных устоев обеспечило замещение принципа музыкальной гармонии принципом художнической пропорции Эта замена знаменует переход от средневековой эстетизированной космологии как преимущественно музыкальной («культуры слышанья») к ярко выраженной визуальной культуре Нового времени. Леонардова наука-живопись – высшее выражение и тем самым завершение этого процесса.
Новое время преобразует музыку из науки в искусство: «музыку сфер» постигает та же участь, что и «книгу мира» – обе они поглощаются метафорой «мировых часов», переводящих божественные пропорции в передаточные отношения зубчатых механизмов. Но прежде оно переводит в науку живопись, формирующую новый строй живых очевидностей. Именно поэтому у истоков ренессансной культуры стоит перспектива, преобразующая гармонии в пропорции и тем препоручающая чувственный мир визуальным формам мысли.
Наукомузыка преобразовалась в наукоживопись, а эта последняя – в наукотехнику. В конечном счете наука Нового времени нашла свое искусство в технике, а свою гармонию – в ее оптимальности. Наука живописует свою истину силами техники, претворяя природу (ее «потаенность», как выражается Хайдеггер) в машину. Более того, она заключает Землю в оболочку техносферы как в новый храм или всеобъемлющее Gesamtkunstwerk. Вот искусство, где наука царит безраздельно.