Свет
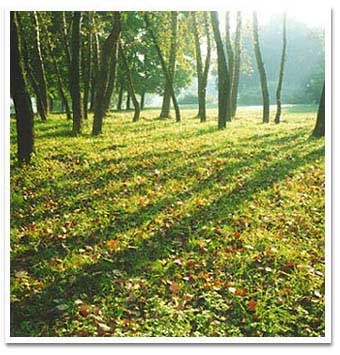 |
Бассейн
Когда меня спрашивают, как выглядит счастье, я вспоминаю Максима
Суханова и Этери Чаландзия. Тех самых, вы их, должно быть, знаете,
они еще для рекламы «Ингосстраха» снялись, про чувства.
Так вот, Суханов сказал как-то: «Когда заканчивается спектакль,
мы встречаемся и едем в бассейн плавать. Мы плаваем по ночам».
Хотя, возможно, он и не говорил «по ночам». Возможно, это уже
додумала я, а на самом деле спектакли заканчиваются раньше…
Но мне всегда виделось именно так. Приглушенный свет, лампы галогеновые,
из тех еще, сдюсшоровских, бассейнов нервно мерцают. Местами.
Такой легкий, не нарушающий общей гармонии тик.
По соседним дорожкам плывут два больших сильных человека. Таких
могучих и красивых. Адски райски усталых.
Они плывут медленно, безмятежно, точно приснившиеся бассейну рыбы.
На спине. Тихо всплескивая, почти синхронно вскидывая руки. Не
видя друг друга, но синхронно. По разным дорожкам, но в одну сторону.
Не думая, глядя прямо в галогеновые лампы, пульсирующие в космической
бассейновой вышине.
Люди, похожие на рыб, плывут рядом.
***
В полдень в бассейне благодать. Две три туши-тетки, по-тюленьи
разгребают воду, отфыркиваясь в усы. Тут же колготятся их отпрыски.
– Аля, Аля! куда пошла! трусы поправь и не прыгай, кому говорю,
башку расшибешь!..
В полдень в бассейне благодать, народу мало.
Я сижу на бортике в синем купальнике, вполоборота к дорожкам,
четырем глянцевым пятидесятиметровкам. Точь-в-точь pin-upовая
голливудская открытка. Такая, где все лазорево и белозубо, и златокудро,
и жизнеутверждающе, и уложено локон к локону. Болтаю ногой в пахучей
хлорированной воде.
И тут оно происходит. Не знаю, не умею, не могу объяснить как,
но оно происходит.
Кубометры, гектолитры жидкого золота, не иначе как уворованного
при строительстве ХХС, выведенного в оффшор, незаконно приумноженного,
и вот сейчас случайно обнародованного…
Срыгнутое московским урабаросом солнце пробивает бассейновые окна
и выпускает свет. Кораблики подбиты, бабьи туши идут ко дну, детки
верещат, глотая хлорированную воду, прыгая, откуда не велела мама,
забыв поправить трусы… И все стихает.
Греки сказали бы: епифания. Я ничего не говорю. Соскальзываю в
воду, плыву, как дура, улыбаясь…
Вернувшись домой, закачиваю в комп гигобайт музыки и сажусь писать.
Пишу я следующее:
Его мать
Во сне я видела его мать. Женщину, чьего лица я не видела никогда.
Мы встретились в купальне. Она держала в руках белое полотно,
которое должно было заменить мне полотенце, и улыбалась. Строго
и нежно, как улыбаются матери в хрестоматийных сюжетах. Я раздевалась.
Тонкий, малахольный ручеек стремился меж пальцев вниз по водоотводу.
Это была купальня, наподобие римских терм. Внутри – терма, снаружи
– китайская пагода. Не совсем, должно быть, правильная, не вполне
каноническая. Но похожая манерой произрастать из ландшафта, естественно,
как гриб чага, без претензий окружающему пространствую. Редкоствольному,
сильфидному перелеску.
…Его мать улыбается мне. Говорит, что его могут забрать, что это
испытание, но я вынесу. Я смогу. Главное, научиться ждать. А вообще,
она в нас не сомневается, она очень рада за нас…
Она продолжает улыбаться, даже когда я поворачиваюсь к ней молодой
и гладкой спиной и иду прочь. В пламенно-алые леса, нереального
какого-то цвета, каких я не видела никогда раньше: ни во снах,
ни в реальности, хотя, говорят, такие бывают где-то на Сахалине.
Красные и желтые леса. Воздух гологафически подрагивает, как бывает,
когда смотришь сквозь пламя. Голова кружится. Это, должно быть,
от счастья, от кислорода, от обилия желтого. Мы бежим – я и мальчик
– почти юзом, очумевшие от напоенного жарким, парфюмерным немного
духом листвы и подосиновиков воздуха. Так, бывает, пахнут эти
грибы, когда, осторожно взяв двумя пальцами, безжалостно раскрошишь
им ножки.
Мальчик катает меня на спине, кружит, мы хохочем. Мы как юные
боги. Или как молодожены в рекламе кредитного банка. Любовь, банальщина,
счастье.
И слишком много света. Как если зайти в ламповый магазин – «Электротовары»
такие раньше были – и попросить включить все лампы сразу.
– Девушка, я беру все.
Миллионы источников. Все светоотражает, плавится, течет – как
сучка, как золотой дождь меж бедер Данаи. Обильно и легко, без
стеснения.
Я не дура какая-то, я даже во сне помню, что к матери своего мужчины
не стоит подходить слишком близко. Съест. Нужно быть деликатной,
но жесткой. Непреклонной. «Здравствуйте», «до свидания» и еще
«спасибо, изумительное варенье». Не стоит позволять этой чужой,
более старой, чем ты, женщине вторгаться. Протягивать руки, опускать
их в нутро, пальпировать, смотреть, склонив голову набок. Не нужно
– это плохо кончится. Я помню об этом, но сдаюсь. Я бесконечно
люблю эту женщину и отвечаю нежностью на нежность, и изумляюсь,
и смотрю на рдеющие леса.
***
…Воспоминание матери. Околоплодные воды, теплые и подсоленные.
Хлористый, дезинфекционный душок родильного зала. Подрагивающие
лампы. Мелкий, не нарушающий общей гармонии тик. Люди-рыбы.
Мы лежим на кровати, я упираюсь коленками ей в попу. Теплую, мягкую,
прикрытую скользкой ночной сорочкой. Тепло пропитывает сорочечный
ацетат, я льну к нему неудержимо, бесстыдно прижимаюсь. Я понимаю,
что прижимаюсь к себе. Потому что она – это я: я буду лежать так
же, в розовой ацетатной сорочке лет через двадцать или тридцать.
И меня будет желать какой-то мужчина. Какой-то дышащий мне в шею,
крепкорукий, много лет проживший рядом. Мужчина, зачинающий дочь,
которой сколько-то лет спустя суждено стать такой же женщиной:
немолодой уже, разморенной душным летним днем, уставшей, прилегшей
отдохнуть и ощутившей вдруг настойчивые, наглые, неожиданно крепкие
коленки своего чада. Коленки в крестце, точно дуло между лопатками:
вперед, поторапливайся. Ее крестец знает, куда я его толкаю. В
смерть, конечно, милая мама, в старость, в смерть. Я делаю это
со всей нежностью, на какую только способна, со всей любовью,
которой ты меня научила.
Я смотрю на ее спину, на позвонки, ямочки; чую коленками горячую,
мягкую попу, чуть оттопыренную инстинктивно во сне… И вдруг по-мужски
ощущаю желание.. Не секса, но обладания. Я хочу обладать ею.
Змей кусает себя за хвост, на гладкой морде его нас двое: две
женщины лежат, сомкнувшись абрисами, совпав точно паззлы и нутром,
всем сумраком глубинным ощущая устрашающую свою похожесть. Мы
похожи, только она чуть смуглей. Я – снег, сливочное мороженное,
а ее кожа – оливковая. Я обесцвечиваю волосы, а она делает их
«тициановскими» при помощи хны. Я строго блюду эпиляцию, а она
нет. И еще у меня нет розовой ацетатной сорочки. Пока нет. Зато
у меня есть ее груди, бедра, шея, у нас одинаковые спины и руки.
Я смотрю на изящную спинку, источающую тепло и точно знаю: тело
передо мной – это я.
Что-то самцовое, доминантное растет, поднимаясь до горла и разливаясь
по рукам.
Урабарос хитро подмигивает и смыкает кольцо.
Солнце вливается в полуденный сонный морок, как чай в горячее
молоко. Продвигаюсь по подушке на несколько сантиметров, чуть
перекладываю щеку вперед. И чую то, ради чего, должно быть, все
это и задумано. Я слышу флюид старости. Еле различимый, разве
что вот так, вблизи, в опасной близости. А стало быть, рано волноваться.
Пока про него знаем только мы: я и ее любовник.
Хотя, я уверена, и она знает. Моя прощающаяся с молодостью мама
знает, что еще пару лет – и запах станет отчетлив: его уловят
муж и коллеги, и подружки, в большинстве своем уже обретшие этот
специфический аромат, его узнает свекровь. А еще через пять и
люди в троллейбусах. В общественном транспорте моей маме начнут
уступать место.
Но пока об этом знаем только мы: я и ее любовник.
Мальчик
Рдеющие леса сделали свое дело. С ощущением такого счастья я не
просыпалась никогда. С подушки, откуда-то справа и снизу на меня
смотрел глаз. Бледно-карий, с золотинкой внутри, с «секретиком».
Как если б мальчику Каю не осколок льда в сердце, но солнечная
крошка – в глаз: затонула, упала на дно, лежит. Еще так свежий
мед в слабо заваренном чае светится.
Глаз изучающее косился.
С его обладателем, тем, чью мать я видела в залитых солнцем лесах,
мы познакомились за пару лет до этого, на каком-то фестивале,
вроде «молодой» драмы. Или «новой». Где-то, где делали первые
шаги к своей Солнечной Славе разнообразные гришковцы и братья
пресняковы.
Оказавшись там случайно, сидела в красном платьев на бордюре.
Скучала, бестолково, махая сумочкой, не зная никого, ожидая. Кого
ждала?.. Принца, наверное: кого еще ждать? Девочки всегда ждут
принца, пока сидят в красном платье на бордюре.
Подошел мальчик, мы сравнили гонорары в его столичной и моей провинциальной
газетах, выпили в ресторане, а потом он подарил мне книжку «Ногти»
модного писателя Елизарова.
Спустя два года я переехала в Москву. Мы созвонились как-то с
бухты барахты, встретились под Пушкиным и пошли на Моховую, в
ресторан, пить.
Кокотство, жеманство, хихиканье: мяла в руках шелковый бело-голубой
платок свой. Мальчик, ставший вдруг сильно пьяней и отчего то
старше, демонстративно скучал: набирал градус и капал на подбородок
соусом от печенки. Соус и платок. Собственно, нам не о чем было
говорить, а молчать и вовсе неловко. Платок да соус. «Хочешь,
поехали ко мне, – вдруг предложил он. – Но ебать я тебя не буду».
Это был удар под дых. Конечно, я согласилась.
Странный хамоватый мальчик оказался поутру трепетным и бледнокожим,
заботливым и робким даже. Так всегда с очкариками бывает. Лишенный
очечной брони глаз – точно персик с вынутой косточкой: надрезан,
лежит, уязвим, сердцевина мягкая обнажена, все детские «секретики»
вырыты, любой обидеть может…
Он действительно не трахал меня. Равно как и я его. Не хотелось
ни фрикций, ни фелляций. Только б пить коктейль из ужаса, желания
и неги! Только б смотреть в напоенные золотом леса! И вдыхать
свет. Через нос, будто кокс. Улавливать солнечные комнатные пылинки,
свернутым, что твоя сотенная, лучом. Смотреть, вдыхать. Пока мальчик
идет ставить чай.
Прошло еще два года, и мы встретились в клубе, куда ни он, ни
я не имеем обыкновения ходить. «Буду любить тебя» – подумала тогда.
Как раз догорали клены: пахло любовью, банальщиной, счастьем.
Любовник
…Иногда я подношу пальцы к ноздрям и слышу тот запах: запертой
в камне воды, прогретой, несмотря на кажущуюся холодность, до
дна, впитавшей сонмы случайных ароматов, главный из которых имеет
отчего-то грибной привкус. Серые и бурые камушки, хвоинки-чаинки
на дне. Я очень хорошо помню, как пахнет смесь солнца и воды.
Так как пахнет финал одного романа Франсуазы Саган, его последняя
страница, напечатанная в журнале «Яблоко» двенадцать лет назад.
Там было что-то очень важное. С тех пор я безошибочно узнаю этот
запах. Сейчас к нему примешивается запах бассейна, хлорка.
А тогда созревшая на Саган девочка ездила со своим, повзрослевшим
на чем-то совсем ином, любимым на дачу. Положение любовников обязывало.
Родительские пять соток, поникшие георгины, грязные калоши у входа,
ледяная вода и ворох особых, дачных, рубашек: холодное, отсыревшее
тряпье.
У серых заборов стояли соседки. «Ишь... приехал.. Не.. не с Натальей,
не с женой приехал, другая какая –то… Слыхала, баллотируется он…».
Девочка гордилась тем, что она не толстая Наташа–жена. Но бывало,
иногда бывало, ночами вцеплялась зубами в подушку, горячую уже
от соплей и слез: от желания гладить ему рубашки, приносить тапки,
варить борщи и прощать любовниц.
Вдвоем они отвоевывали пространство у дачной мутотени, привозя
с собой видео -Кустурицу и «Риверданс», музыку, кьянти в оплетках,
и свечи, и чистое белье, и кучу прочей ерунды, по-городскому беспомощной
и одинокой в этих полярных условиях. Из «местного» оставались:
чеканка с хрупкой девичьей фигуркой, прижатой к березке, чашки
в горошек, баня по-черному и электрокамин, похожий на холст в
каморке папы Карло. Любовник рассказывал, как в 10 лет он влюбился
в девушку с чеканки. Как придумал, что она девочка-морячка, юнга,
и зовут ее Сашка как героиню какой-то дворовой песни. Как в двенадцать
впервые мастурбировал, глядя на нее – обладательницу точеного
профиля и короткой под мальчика стрижки: «как у тебя» – смеялся
любовник.
Они упражнялись на скрипучем диване, пытаясь победить жаром тел
серый полдень, сырой и склизкий, как половая тряпка. Ничего не
получалось. В отчаянном совокуплении им не удавалось обрести Бога.
Почуяв тщету – вышли вон. Вон друг из друга, вон из дома – сквозь
помятые дождем георгины, мокрые флоксы. Шпильки вязли в навозе.
Впереди белела река.
…Достигнув реки, они сидели на берегу, привалившись друг другу,
на большом сером камне, холодном, будто никогда не ведавшим солнца…
Что за пора стояла: май ли, июнь ли, сентябрь? Но, кажется, цвели
одуванчики. Частью цвели. А частью уже отцветали. Значит, ранний
июнь. Ранний июнь холодного лета. Девочка и мужчина сидели на
камне; он что-то напевал ей в ушко – ласково, нежно:
как по Волге, по реке, ходят пароходики. незаметно пролетают молодые годики...
Пароходиков не было. Лишь где-то вдалеке, между пустым, самодостаточным
небом и остальным миром застыла баржа.
Сколько они так сидели, прижавшись друг к другу, испытывая тихое
растительное счастье? Тихие, пустые и безмятежные. Усталые. Реальные
и нереальные, как старик со старухой, доживающие свой столетний
сказочный срок в лубяной избушке, «у самого синего моря». Но рано
или поздно им стало голодно и зябко: и захотелось вернуться в
дом, к флоксам и растерзанным георгинам, и выпить водки и голышом
завернуться в колкие пледы.
Они стали карабкаться наверх.
А потом – все как на иллюстрации библейских чудес. Хлынул свет.
Внезапный и изумительный, как вынутый из цилиндра кролик, аки
божественный фокус-покус. С глупых небес хлынул свет и пошел снег.
Редкий, хлопистый, медленный. Если бы не ветер, он, казалось,
не падал бы вовсе, а зависал в воздухе, как в детских гуашевых
упражнениях. Снег мешался с белыми парашютами одуванчиков и залеплял
глаза. Отрезая дорогу к дому. Мужчина и его женщина, стрижкой
похожая на девочку Сашку, стояли и улыбались – блаженные деревенские
дурачки…
Иногда мне кажется, что мы так и остались стоять там: среди этого
света, одуванов и снега. И если найти это место, как-нибудь исхитриться
и найти его, то непременно наткнешься на нас: ведь мы так и стоим
там – обнявшись, щуря глаза, юродиво улыбаясь.
Или может я до сих пор, в смысле – ПРЯМО СЕЙЧАС, вот в этот самый
момент – сижу на бортике бассейна, в синем купальнике, болтая
ногой... А здесь, перед монитором, меня нет. Здесь, обнимая горячий
тефалевский чайник вместо грелки, есть зомби, оболочка, заряженная
стучать по клавиатуре. А я все еще млею на чужой подушке, в утренней
эстрогеновой неге, в ирреальном счастье побега по пламенеющему
лесу.
Я почти уверена, что это так.
Эпилог
Несколько лет спустя я видела такую же купальню в Армении, в долине
Гехард, в полусотне метров от храма Гарни, обжитого в 301 году
армянскими первохристианами, а потом и царями – Тиграном, Хосровом,
любителем летних охот… До того, как на армянскую землю ступили
последователи Иисуса Назарея, храм был посвящен Митре, известному
так же как Заратуштра.
Купаленка у Гарни – след все-таки римский. Зороастрийцы к ней
не причастны, хотя их солнечный Митра, пахнущий, как молочная
кухня и пасека одновременно, кажется здесь кстати пришедшимся.
– Вон на полу мозаика, она настоящая, сохранилась, – кивает сморщенный,
желтый и старый, как сам Гарни, экскурсовод. На полу, прямо у
моих ног водоотвод. Дежавю. Пару тысяч лет назад по нему струилась
вода, бежала мелким ручейком, едва прикрывая ступни. И возможно
одна женщина держала белое полотно перед другой и улыбалась ей
– строго и нежно. – Это богиня Луны, она в центре, а тут водяные
символы…»
Богиня луны. Луна, Селена, стало быть. Женская богиня. В римской
бане. В женский день.
Храм Гарни, после семисотлетнего изнасилования арабами и турками,
был разрушен землетрясением в 1679. Восстанавливали его уже советские
строители, в 60-х годах прошлого века.
***
Зороастризм до сих пор распространен на Кавказе. И азер – это
вовсе не хачик, человек с носом-в-кепке, торгующий на рынке мандаринами,
но месяц «огонь», заканчивающийся 22 декабря. Вот азер заканчивается
– и стоит солнце. А через 3 дня, поутру, все собираются на день
рождения бога: огнепоклонники – своего, христиане – своего.
А бог лишь смотрит, прищурившись, меняя, как балетная прима, терновый
венец на львиную голову, и раскидывает в прощальном реверансе
крылья-руки наподобие креста. Он смеется, он радуется жизни, Бог-искупитель,
Бог-заступник, Бог-жертва.
***
Волга впадает в Каспийское море. На другой стороне Каспия, на
острове Апшерон, всегда горят факелы природного газа, вечные огни
Зороастра. От устья Волги к Апшерону плывут люди-рыбы. А над ними
мелким тиком мерцают звезды.
Офф-топ
Спросите меня, что самое сильное в жизни? Чего я боюсь также сильно,
как высоты, собак и острых предметов?
И отвечу: я не боюсь ничего. И я стану совсем смелой, только ради
того, чтобы еще хоть когда-нибудь испытать это счастье: увидеть
червонное золото, расплавленное, как в тигле, растопленное, будто
в моче Архангела Гавриила, и выплеснутое в мир.
Да, я такая смелая.
Но теперь и вы наберитесь равной мне смелости. Наберитесь и спросите,
о чем я мечтаю, чего хочу больше всего на свете?..
И я отвечу. Я хочу иметь раскосые, роскошные глаза византийского
художника. Художника, отказывающегося помещать в своих картинах
какой бы то ни было источник света, ибо он верит, что фигуры в
его мазне – светоносны. Всерьез полагающего, что кусочки смальты,
составляющие лоб или плащаницу, или мизинец богоматери имеют этот
свет внутри. Ведь смальта – это стекло с каплей материализованного
света внутри, секретик с золотинкой.
Да, я хотела бы иметь роскошные глаза Феофана Грека и сердце,
не знающее страха высоты, собак и острых предметов.
Как видите, я не хочу ничего экзотического: ни лилии в легком,
ни русалочьего хвоста, из которого хирурги мастерили бы ноги,
ни пикантной аномалии вроде вечно повышенной температуры тела.
Я хочу просто смотреть на свет. Стоять в белой майке и темных
очках, с конским хвостом, в дизайнерских штанах, модных кроссовках
и заляпанной краской ветровке. Засунув руки в карманы. Широко
расставив ноги в мокрой траве, растопырив под влажным утренним
ветром кожный персиковый пушок.
Стоять так, смотреть вверх и чуть-чуть наискосок. Щуриться под
очками. Улыбаться утреннему солнцу.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

