Алфавит Риветта (С – Я)
С
Фильм Out 1: Spectre предваряют три вступительных титра следующего содержания: 1 титр «Предположения – Место действия истории:» (Hypothèses – lieu de l'histoire:); 2 титр «Париж и его двойник. Время:» (Paris et son double – temps de l'histoire:); 3 титр «Апрель или май 1970 года. Смысл истории:» (avril ou mai 1970 – sens de l'histoire:). Предполагается, что читать их нужно слитно, то есть титр «смысл истории» (и двоеточие за ним) предполагает, что им является фильм, который за ним следует. Важно и то, что сам Out 1: Spectre является «двойником», короткой версией тринадцатичасового Out 1 – Noli me tangere.
Двойник как призрак (spectre). И призрак как двойник – инверсия в этом случае вполне закономерна. Призрачность Риветта – список призраков будет длиннее перечня гомеровских кораблей – «фирменный знак». И это общее место, трюизм за которым, как за шкафом, спрятано нечто более интересное. Отражения, зеркала, двойники, призраки, фантомы, потусторонний мир, секретные жесты, имена, не принадлежащие людям, люди без имён – такое «мистическое» раздолье, как отвлекающий трюк престидижитатора, скрывает самое главное.
Риветт своими фильмами словно бы окончательно утверждает имманентность кинематографа, безо всяких оговорок свидетельствуя, что «всё уже здесь» и «есть только явь и свет». Призрачное искусство движущихся на стене теней, показывающее призраков, умножает призрачность, возводит её в квадрат и становится материальностью, провозглашает и заверяет существование фантомов здесь и сейчас, схлопывая два мира – материальный и призрачный. Показать призрака в кино означает удостоверить его существование. Кэндзи Мидзогути в «Сказках туманной луны после дождя», Канэто Синдо в «Чёрных кошках в бамбуковых зарослях», Ален Таннер в «Реквиеме», Педру Кошта, запечатлевая жизнь призрачного Фонтаньяша, Жан-Поль Сивейрак почти во всех своих фильмах, Филипп Гаррель в «Границе рассвета» (даже Вуди Аллен в «Матч-пойнте») и Жак Риветт, без сомнений, заявляют, что в кино нет никакого расслоения миров. Существование мира и его двойника не означает, что есть имманентное и трансцендентное. Есть лишь две части имманентного.
Может быть, в этом и заключён удивительный опыт Риветта, который из фильма в фильм так просто и элегантно скользит между модальностями имманентного. Бергман восхищался Тарковским, его умением просто и плавно переходить из реальности в сон, из сна – в реальность, но стоит ли удивляться, ведь в этом и заключена сущность кинематографа – он может показать всё, что угодно: сон, реальность, мир мёртвых, движение мысли, философское размышление, тайну повседневной жизни. Кинематограф всемогущ, раз уж ему удалось запечатлеть призраков.

Т
Маленькая птичка срывает бледнозелёные листья, выкладывает их на земле, мягко ступает красными лапками на эту созданную ей сцену и начинает петь, вибрируя оранжевым горлом. Гоголевский Хома Брут очерчивает вокруг себя круг и читает молитвы, но он не на сцене – сценой становится то пространство, от которого он отсёк себя меловой линией. Делириумный Мишель Робен в фильме «Главное – любить» Анджея Жулавски взбирается на стол, чтобы подняться до уровня трагического шекспировского героя. Жюльет Берто и Филипп Клевено в «Селин и Жюли совсем заврались» входят в парковую беседку, и этого достаточно, чтобы родился театр.
Риветт и театр. A perfect pair, не так ли? Общее место – «Фильмы Риветта театральны» – могло бы раздражать, если бы можно было позволить себе злиться по поводу слепцов. Театр в творчестве Риветта – это проблема, которая ставится почти в каждом фильме (театр как таковой присутствует в 43 % фильмах режиссёра). Каждый раз заново. И это требует слишком много сил и мыслей, чтобы быть общим местом.
Театр в фильмах Риветта – это территория другого, когда, даже вступая на невидимую сцену, человек изменяется. Невидимая граница – и человек становится другим. Но проблема, которую определяет Риветт, несколько сложней и неоднозначней, чем проблема превращения человека в актёра, пространства – в сцену, «настоящести» – в искусство / искусственность.
Фильмы Риветта не о том, как человек вступает на подмостки, а о том, как он пытается с них сойти. Взойти на сцену просто: встать с постели и резать бритвой свою одежду; надеть чёрную маску и взять в руки тяжёлый револьвер; превратить в театр свой дом и пригласить в него двух актрис-англичанок; читать энигматичные считалки, заклиная именем Саламандр; съесть леденец; пить водку под сводом театра в образах «Гольдони» и «Хайдеггера». Все знают, чем начинается театр, мало кто догадывается, чем он заканчивается. Риветт предельно честен, когда говорит о причине конца театра: безумие, смерть, разбитый Амур на земле, блеск кровавого бриллианта, пустота.
И в этой пустоте, грандиозным исследователем которой является Жак Риветт, есть ответ, куда движутся его фильмы, и вообще причём здесь театр. Вектор движения направлен не внутрь театра, а наружу – туда, где мир, настоящая жизнь может быть поверена через театральную игру. Туда, где можно сойти со сцены и быть настоящим.
У
Удовольствие от смотрения фильмов Риветта – особенное, тонкое, но ни в коем случае не элитарное или снобистское. Это, скорее, удовольствие, которое получаешь от простых вещей – простых, но забытых. Чистота линий в мизансцене, простота и в то же время изысканность движений актёров, связанность их взглядов, реплик, перемещений камеры, несколько замедленный темп фильмов, позволяющий наиболее полно им раскрыться.
Можно было бы назвать такое чувство зрителя «наслаждением», выстраивая оппозицию «удовольствие – наслаждение», как это уже делал Ролан Барт, персонаж романа-алфавита, написанного им самим. Это правомерно, тем более что в удовольствии от просмотра риветтовских фильмов есть какая-то доля неудовлетворённости, незаконченности, которая требует продолженности взгляда в мышлении. И даже больше: чаще всего созданное фильмами Риветта пространство не завершено, подвешено в процессе создания, зияет пустотами, оборванными нитями смысла. И всё это требует не успокоенности удовольствия, а активности наслаждения.
И всё-таки, не наслаждение, а удовольствие. Странным образом фильмы Риветта заполняют ту нехватку, о которой не знаешь. И это несколько парадоксально: Делёз в своём «Алфавите» говорил о том, что нельзя желать того, чего не знаешь. Риветт же поступает особенным образом – он в своём фильме указывает зрителю на нехватку, о которой тот забыл (нехватку игры, движения, слова, загадки), а затем заполняет её, удовлетворяя. И это удивительно.
Ф
«Феникс» (Phénix) – фильм, так и оставшийся на бумаге. Возможно, в этом заключено жестокое отмщение потенциальности, направленное на актуальность. Не столь жестокое, как в случае двух фильмов из цикла «Девы огня – Сцены из параллельной жизни», от которых остались короткие тексты и воспоминания, так как «Феникс» существует как сценарий (Элен Фраппа издала книгу «Три призрачных фильма Жака Риветта» со сценариями фильмов Phénix, L’An II и Marie et Julien). Но, наверное, такое же жестокое, как и неснятый фильм «В следующем году в Париже» с Жанной Балибар и Гийомом Депардьё, оставшийся лишь как замысел. Ни «Феникс», ни «В следующем году в Париже» не заинтересовали французское телевидение – грустное положение вещей эпохи позднего капиталистического кинематографа.
Однако подсластить горечь всё же можно, так как из невозможности снять «Феникса» родились «Селин и Жюли», а задуманные на роли «В следующем году…» актёр и актриса перешли в удивительную не-экранизацию Бальзака «Не трогай топор». А также можно несколько утешить месть Потенциального размышлениями о том, каким бы Актуальным оно стало. Такие фантазии также излечивают месть литературы, так как размышления и фантазии о неснятом фильма становится некой разновидностью кинематографа. По крайней мере, такая мысль пусть немного, но всё же успокаивает.
Х
Хаос – это не аморфная гетерогенность беспорядка, а вместилище возможностей. Оформляя часть хаоса, стреноживая его порядком, художник теряет и львиную долю тех возможностей, которые были в нём заложены. Так случается потому, что работа искусства – это работа репрессивная, если считать форму насилием над бесформенностью. Это не плохо и не хорошо, это положение вещей.
Удивительно, как Жаку Риветту удавалось сохранить между хаосом мира и порядком фильма некую переходную зону, некий динамический хаос, через который в порядок могли проникать возможности хаоса. Такой стратегией (и стратегией удивительной в смысле кинематографической практики) не управляет желание полностью отпустить поводья и разрешить фильму двигаться самому, так как известно, что самое простое движение – с горы вниз. Но и непроницаемая граница между порядком и хаосом отсутствует. Может быть, следуя принципам, которые определил Илья Пригожин, хаос мира мог бы самоорганизоваться в некий порядок (это было бы потрясающе интересно), но в кинематографе это, точнее всего, невозможно.
Работа же с динамическим хаосом возможна вполне. В таком управлении фильмом закладывается некая возможность неожиданности – позитивной ли, негативной, это не столь важно. Важно то, что хаос, действуя через буферную зону своей динамической разновидности, придаёт порядку движение. А уж режиссёру нужно это движение распознать. И соответственно изменить натяжку поводьев.

Ц
Цитата из «автоинтервью» Джона Хьюза «Диалог с самим собой»: «Кто такой Риветт? Это дождь за окном, сумасшедший друг только что позвонивший мне издалека, с заброшенной фермы в дебрях Британской Колумбии, шум дождя, напоминающий мне океан, океан, напоминающий мне "Северо-западный ветер", "Северо-западный ветер" напоминающий мне Бернадетт Лафон, которая заставляет меня думать о горах, где она родилась».
Ч
Чепуха, сапоги всмятку, нонсенс. Таково убеждение тех, кто часто задаёт досужий вопрос: как можно было, разрабатывая такие «горячие» темы, как безумная любовь, жестокая месть, сети заговоров, существование призраков этцетера, снимать такие, мягко выражаясь, рыхлые и не очень выразительные фильмы, в течение которых эти темы вязнут, теряются, увядают в подвешенных концовках и оборванных нитях повествования? Потом в ход идут советы: сделать повествование более динамичным, вырезать часть фильма, доведя его до нормативной длительности (которую, как известно, Хичкок связывал с объёмом мочевого пузыря), смонтировать ярче, активней, отбросить побочные темы и всё внимание уделить основной. А вот это уже точно чепуха, нонсенс, сапоги всмятку, потому что, последовав этим советам, можно получить ещё один фильм Рона Говарда, Стивена Спилберга, экранизацию Роберта Харриса – это недурно, но это не будет фильмом Жака Риветта.
Странно, что никто не задаётся вопросом, зачем Риветту уплощать интригу, специально снижать градус интереса, кутая всё в многослойные истории, которые внезапно начинаются и резко заканчиваются. А ведь этот подход и рождает среднюю длительность фильмов Риветта в два часа двадцать минут – ему нужно время, чтобы любая интрига затерялась среди обычных и даже обыденных событий. Всё очень просто: Риветт не запечатлевает интриги, он ухватывает жизнь, в которой они зарождаются ни с того ни с сего и так же заканчиваются. И из этой жизни, медленно текущей на экране, нужно выцарапать эти золотые блёстки, затрачивая огромный труд, который всегда вознаграждает зрителя-золотоискателя. Кто-то скажет, что эти блёстки – чепуха, и что их других ярких занимательных фильмов можно извлечь целые самородки. Всё так – целые самородки сульфида железа, блестящего, слепящего глаза «золота дураков».
Ш
Первый диалог Алисы с обитателем Страны чудес начинается с крайнего непонимания – она задаёт плывущей Мыши вопрос на французском (О, Алиса! О, Льюис!): «Où est ma chatte ?» («Где моя кошка?»). В чýдных фильмах Риветта этот вопрос просто излишний – коты и кошки живут в них повсеместно.
Режиссёр, обсуждая съёмки «Селин и Жюли» (Натали Аснар, которая сыграла девочку, спасённую Селин и Жюли, очень похожа на Алису Плезнс Лидделл с фотографий Чарльза Лютвиджа Доджсона), утверждал, что кошки в загадочном доме были изначально (уж кто бы спорил?). Однако последний кадр фильма – морда трёхцветной кошки (трёхцветных котов, как известно, не бывает), которая пристально смотрит в камеру (котам на королей – и в камеру – смотреть не возбраняется) – заставляет зрителя подозревать, что кошки в фильмах Риветта не те, кем кажутся.
Когда в Out 1: Noli me tangere играла Жюльет Берто, то она напоминала Риветту кошку (в «Селин и Жюли» она будет Белым Кроликом: едят ли кошки кроликов? Едят ли кролики кошек?). Критик Джон Хьюз в предисловии к своему интервью с Риветтом прямо называет его Чеширским котом (и Льюисом Кэрроллом в маске). Впрочем, всё это вольные поэтизмы, как и ассоциативный каламбур – фамилия актрисы, сыгравшей одну из «Банды четырёх» (Лоранс Кот / Laurence Côte) только омонимически близка этим прекрасным животным (хотя кто знает?) Но есть примеры и более материальные.
В «Карусели» Даллесандро ждёт развязки, пьёт бурбон и играет с котёнком рыжего, почти палевого окраса; мобиль, составленный из силуэтов чёрных котов, висит в квартире Сильви, которую играет Сандрин Боннер в «Тайной защите»; в «Безумной любви» Бюль Ожье пригибается и пугает маленького чёрного котёнка, который принёс Жан-Пьер Кальфон (Клер: «Что это?» Себастьян, снимая котёнка, который вцепился в куртку: «Слон, разве не видишь?»); Лоранс Кот читает письмо коту Анри в «Верх, низ, хрупко» (девушка, кот, зеркало – почти по Бальтюсу).
В паре «Прекрасная спорщица» – «Дивертисмент» кошка Жюстин на руках Джейн Биркин позволяет сличить дубли, из которых были «склеены» эти версии (и вынести вердикт о том, что они разные). Та же кошка будит спящего Мишеля Пикколи – сравнение дублей (а они почти одинаковые) подтверждает, что импровизационность Риветта, особенно поздних фильмов, слишком преувеличена: и кошка, и Пикколи в двух дублях совершают почти идентичные движения. Ну а дрессура кота Nevermore (настоящая кличка – Гаспар) из «Истории Мари и Жюльена» просто удивительна: его катавасия с настенными часами не уступает трюкам Оранджи-Рубарба из «Завтрака у Тиффани» и достойна премии «Пэтси».
Щ
Если бы в Out 1 Бюль Ожье и Жан-Пьер Лео ели варенье из щавеля, то здесь можно было бы привести его рецепт – но ели они ревеневое варенье. Удивительная вещь алфавит – чем ближе к концу, тем он сам, положением и частотой применения литер, принуждает к касательному характеру движения. Придётся читателю этого алфавита самому угадать присвоенный этой литере объект, прочитав фрагменты, представленные ниже.
Холодный вечер, быстро надвигающиеся сумерки. Жанна д’Арк выехала с сопровождающими из родной деревни. Она едет на войну. Домов в окрестности нет, поэтому они решают заночевать в разрушенной церкви. Тусклый, неверный вечерний свет и Жанна, которая молится в опустошённой церкви.
Семейный ужин. Себастьян с аппетитом ест, Клер смотрит на него с недоверием, потом просит, чтобы он сначала попробовал еду на её тарелке. Себастьян отрезает кусочек, жуёт. Клер съедает оставшийся ломтик.
В помещение маленького театрика входят люди в штатском и уводят с собой театрального педагога Констанс Дюма. Повисает долгая тишина. А потом четыре девушки всё же поднимаются на сцену, чтобы продолжить репетицию.
Крупный план Марианны в конце «Прекрасной спорщицы». Она произносит «Нет…», и в нём заключены четыре часа фильма, которые сжаты в кулак единственного слова.
Мужчина и женщина, после долгих погонь и подстроенных ловушек, сидят на дюнах у моря и улыбаются друг другу.
Батист и «Макс» делают упражнения первой катá на Северном мосту.
Э
В фильмах какого режиссёра оператором был Вильям Любчански, монтажёром Николь Любчански, а в ролях можно встретить Бюль Ожье, Мари-Франс Пизье, Эрмин Карагёз и Жака Риветта? Правильно, в фильмах Эдуардо де Грегорио (ещё одна уловка – к литере «Э» вообще-то сложно подобрать «сюжет»).
В начале 60-х – первой половине 70-х в Париж «путём Кортасара», который тот проторил ещё в начале 50-х, приехали талантливые латиноамериканцы, которые вполне освоились во французском кинематографе: аргентинцы Уго Сантьяго (приехал в 1959 году, поработал у Брессона, но до 1974 года снимал фильмы в Аргентине; столько фильмов, снятых по произведениям и сценариям Хорхе Луиса Борхеса и Адольфо Биой Касареса, наверное, нет больше ни у кого); Рикардо Аронович (приехал в 1971 году и сразу стал оператором у Луи Маля на скандальном фильме «Шумы в сердце»); Эдгардо Козарински (приехал в 1973 году; кроме художественных фильмов, снял несколько десятков документальных работ о музыкантах, поэтах и режиссёрах); конечно же, чилиец Рауль Руис (приехал после пиночетовского переворота в 1973 году; в конце 70-х начал свою французскую карьеру двумя фильмами по книгам Пьера Клоссовски; удивительное «Обретённое время» по Прусту снимал вместе с Ароновичем). Аргентинец де Грегорио приехал в 1966 году, поработал актёром у Штрауба и Юйе, сценаристом у Бертолуччи, а потом стал постоянным сценаристом Риветта.
Удивляет следующее: все эти латиноамериканцы стали во французском кинематографе более «французскими», чем сами французы, если можно так выразиться. У всех у них (Кортасара тоже не следует забывать; к слову, «Феникс» имел посвящение «Гастону (Леру?), Фрицу (Лангу?), Альфреду (Хичкоку?), Хулио (Кортасару?) и некоторым другим») есть какое-то особенно острое чутьё насчёт французскости – но это ни в коем случае не стремление к ассимиляции или грубое обезьяничание. Нет, в этом чудится некая дистанция, которая позволяет становиться французом, не будучи им, как будто бы коренной француз воспринимает всё окружающее как данность, без анализа (впрочем, это относится не ко всем французам), а человек из-за океана ничего не допускает внутрь себя, тысячу раз проверяя.
Вторая причина удивления не относится к территориальности. Сценаристами Риветта, если ими не были сами актёры, чаще всего одновременно были мужчина и женщина. Первые два фильма – соло-сценаристом был актёр Жан Грюо, а дальше – пары, трио, квартеты: Риветт и Марилу Паролини, Риветт и Сюзанн Шиффман (её роль в жизни и творчестве Риветта значительно бóльше, чем роль сценариста), де Грегорио – Паролини, Шиффман – де Грегорио, Бонитцер – Шиффман – Паролини (трио становилось квартетом, когда в сценарную работу вникал Риветт), Бонитцер – Шиффман, Бонитцер – Лоран (в «Тайной защите» Бонитцер – Кюо). Раскрыть тайну такого положения вещей, наверное, невозможно.
Ю
Хотелось бы воскликнуть: «Jucundi acti labores!» (Лат.: Приятен оконченный труд), но остаётся ещё одна буква:
Я
Может быть, когда исчезает «Я», тогда и начинается кино. Предположение, которое сквозит ужасом потери себя, восхищает ухарством танца над пропастью, парализует пристальным взглядом, направленным в Небытие. Важно понять следующее: бояться нужно только неизбежного, потому что в какой-то момент такого непрерывного страха перестаёшь бояться вообще.
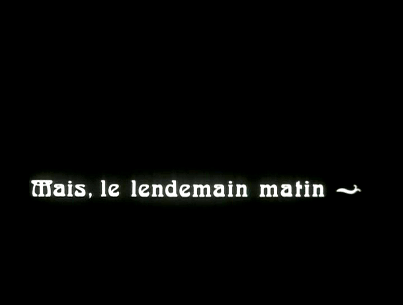
Однако на следующее утро…
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

