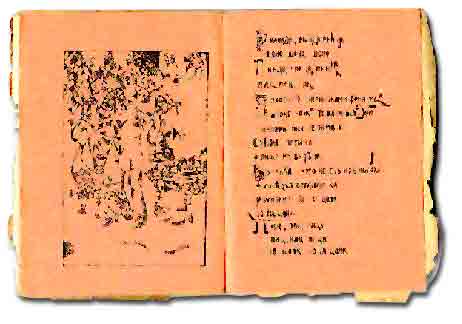Русский Танатос (продолжение). Смерть и Текст: случай Велимира Хлебникова
Русский Танатос (продолжение).
Смерть и Текст: случай Велимира Хлебникова
В предыдущей статье мы говорили о яркой и, на наш взгляд, эпохальной идее
М. Бланшо - идее умирания-в-тексте. Такой метафизический трамплин выводит
мысль за пределы жестко и жестоко детерминированного позитивистскими
стратегиями поля гуманитарного препарирования проблемы смерти; в
заготовленных доброхотами от доморощенной танатологии схемах замыкает и "+",
и "-", и "землю", а на контактах сфероидов головного мозга безудержно
искрит...
Подобное ощущение вызывают и тексты Велимира Хлебникова. Читая Бланшо, я не
мог удержаться от ощущения, что то, о чем он пишет уже где-то было. Чувство,
которое я испытывал от текста Бланшо, мною уже определённо было опробовано
ранее. Я вновь стал вчитываться в Хлебникова...
1
В поэме "Жуть лесная" есть такой фрагмент: "Прекрасен избранн<ый> из ста, /
Он на могилу свежевскопанную, / На книгу, пальцами растрепанную / Лицом
усталым чуть походит:" (НП : 236 - 237)
2 Показательна цепь образов: 'красота'
R 'могила' R 'книга' R 'лицо'. Связь смерти и литературы манифестируется
посредством причудливой метафоры.
Текст почти мертв, поэтому становится возможным следующий образ: "А песни
распались, как трупное мясо:" (III : 93). Азбука, буквы - это элементарные
частицы, клетки плоти - тоже элементарные частицы; финал физического
существования влечет за собой разложение; а значит, закончилась книга -
скончался смысл.
Вспоминаем тезис М. Бланшо: небытие пронизывает собой литературу, и понятным
в этой связи становится намеренный хлебниковский акцент в стихотворении
"Бурлюк" на мотиве мертвого глаза. "Бытовое" объяснение его мы имеем в
биографическом тексте: как известно, Бурлюк был одноглаз, носил - стеклянный.
Но бытовой импульс - это не самодовлеющий принцип. Оттолкнувшись от яркого
образа, Хлебников дает превосходное описание небытийности литературы, ее
удивительной способности сохранять жизнь в вакууме пустоты: "То была выставка
приемов и способов письма / И трудолюбия уроки. / И было все чарами бурлючьего
мертвого глаза" (2 : 331). Мертвый глаз становится не просто деталью
физиогномического ландшафта, но необходимым художественным методом. Только
при помощи мертвого появляются "приемы" и "способы", только в небытии
осуществляется парадоксальное становление, если пользоваться терминологией
Янкелевича. Тогда ясен вопрос: ""Не есть ли природа песни в <уходе от>
себя, от своей бытовой оси? Песня не есть ли бегство <от> я?" (1 : 517).
Направленный, по видимости, на критику бытовой "заземленности" искусства,
он оборачивается прототипом размышлений М. Бланшо: "Писатель - это тот, кто
пишет, чтобы суметь умереть, тот, кто обретает возможность писать в
результате преждевременной связи со смертью", чтобы суметь убежать не только
от мира, но и от своего "Я", растворившись в мортальном измерении Текста;
а смерть - есть ":плата за искусство, есть прицел и оправдание
письма" [3 : 52]. Поэтому и цикл "Бегство от себя", продолжающий эту мысль,
открывается так: "Котенку шепчешь: "Не кусай". / Когда умру, свои дам
крылья:" (1 : 359). Поэтому так часты хлебниковские эскапады в область
буддийстких и индуистских медитаций, на которые обратил внимание
Вяч. Вс. Иванов: "Индусы произносят оум, оум, повторяя с разной силой
много раз. Они поклонники Нирваны, становления ничем. <:> Путь единицы в
ничто через деление: таков смысл этого звучания. Но это есть основная истина
веры буддистов" [6 : 406 - 407]. Эта же мысль повторена в "Досках Судьбы":
"Путь единицы в ничто через деление, через самоуничижение, тайный смысл
оум дал нам возможность приблизиться к следующему положению:"
3(ДС : 120).
Для нас важно хлебниковское ощущение связи звука и небытия, слова и небытия;
идея, специально не отмеченная автором, но, без сомнения, глубоко им
переживаемая.
Лейтмотив драматических поэм "Настоящее" и "Прачка" - лозунг толпы: "мы -
писатели ножом". Здесь вновь самым непосредственным образом отмечается связь
литературного творчества и смерти; причем "писателем" становится толпа,
а искусство писать - талантом живописать, или, скорее, мертвописать, что,
впрочем, вполне соответствует бытийно-небытийной сущности самой литературы.
Наконец, в текстах появляется и сама Смерть пишущая : "Смерть! Я - белая
страница! / Чего ты хочешь - напиши!" (1986 : 307); "Первая заглавная буква
новых дней свободы так часто пишется чернилами смерти" (1986 : 547); "И пусть
моровые чернила / Покроют листы бытия:" (1986 : 289).
Литература творит смерть. Определяя ее двойственность и "лживость", М. Бланшо
пишет: "Она осуществляет отрицание, отбрасывая в небытие всю нечеловечность и
неопределенность вещей, определяя их, делая их конечными, и в таком смысле
через нее и впрямь делает свое дело в мире смерть" [4 : 97]. То же у
Хлебникова - образы "страшной" Азбуки мы встречаем на каждом шагу: "Азбука
шагает - что страшнее?" (IV : 269); "А, шагает Азбука! Страшный час!"
(1986 : 485). "Драки свинцового набора" (IV : 307) и "битва азов" (1986 : 211)
сменяются "буквой ножа", способным ":смысловое брюхо / Столетий
вспороть" (2 : 360), а "казнь королей" измеряется "в единицах
азбуки" (ДС : 109).
Правда, у Будетлянина такое вuдение направлено как бы "сквозь" литературу,
на сам язык; естественно, язык был основным "материалом" авторской рефлексии.
Но если язык способен умерщвлять, если это тот самый язык, который, по
выражению М. Бланшо, есть ":жизнь, которая несет в себе смерть" [4 : 96], то
и произведение, написанное языком, тем более становится таким орудием. И мы
находим у Хлебникова пассаж, относящийся к "Доскам Судьбы": "Этой книжкой
правители списаны в расход за ненадобностью <,> отныне мертвецы"
(РГАЛИ 527-1-120-л.10). Литература способна творить смерть и пользуется
этим правом. Точнее, не правом, а обязанностью, самим своим бытийно-небытийным
основанием; она не может им не пользоваться, ибо творческий процесс
подразумевает разрушение, разрушение созидательное, но - разрушение.
Нет смерти - нет и творчества. Способность литературы преобразовывать,
умерщвляя, представлена в известном хлебниковском сюжете о войне,
утонувшей в чернильнице. Мы встречаем его в рассказе "Ветка
вербы" (1986 : 573), в "Досках Судьбы" (ДС : 60), в
черновиках
4
Эти примеры демонстрируют, так сказать, внешнюю проекцию
аннигилирующе-креативной силы литературы. Но вся мощь ее, конечно, первым
делом оборачивается на самого творца, на автора, погружающегося в глубину
Текста, за сам предел Бытия - в мортальное пространство пустоты.
"Искусство - суровый бич: оно разрушает семьи, оно ломает жизни и душу", -
заметил Хлебников в одном рассказе (1986 : 515). Конечно, ведь "гений
встречает смерть лицом к лицу:" (Бланшо: [3 : 53]). Отсюда и появляется
метафизический страх, страх перед собственным талантом, страх перед
собственным даром. "Над самой пропастью письменного стола / (Где страшно
заглянуть):" (2 : 200). Хлебников, который не боялся ни пули, ни ножа
5,
страшится заглянуть за край стола. Почему?
За краем стола открывается истинно тайное - небытие: Ясным тогда становится
загадочное стихотворение, комментарии к которому старательно опускает уже не
первое поколение издателей, "Бежит, бежит ко мне мой песнемордый зверь:"
(1 : 183). Приведем его полностью.
Бежит, бежит ко мне мой песнемордый зверь. От ужаса трясусь я. О друг! спаси! Иди, поверь! Куда пойду? И где спасуся? Сознание в опасности! - проверь. Гробее гроба тишина ся.
Здесь - чрезвычайно живое и яркое описание творческого процесса, страха и
смерти писателя в собственном письме.
Зверь - сам Текст ("песнемордый"), стремительно приближающийся к автору, едва
только он садится за свой письменный стол. Ужас, охватывающий его, заставляет
просить о помощи, молить о пощаде, ибо в эту, действительно страшную секунду,
он проклинает свой собственный талант, свой дар, жестоко мучающий видением
небытия, ощущением собственной смерти. Но идти некуда; "и где спасуся?" -
вопрос риторический: "Сознание в опасности" - это сигнал полного
слияния-с-текстом, предвосхищение собственного мортального опыта. И тишина в
финале - собственно ОНО, сам процесс письма, само небытие и "Я" писателя в
нем.
При внимательном прочтении ряда текстов мы сможем обнаружить значительное
количество не менее ярких описаний умирания-в-тексте. Образцы такого рода
переживаний дают нам фрагменты, условно, словотворческого потока сознания,
представленные, по преимуществу, в ранних текстах.
"И видения всё учащались и учащались, и после видения и вытаскивания обратно
проглоченного кем-то куска бессмертия, с помощью крючка и при звуках общего
хохота, - после метели ужасных и страховидных кумиров был Ястмир людноногий,
парящий над всем, и расхаживал некий мирач, никем не мнимый, но оставляющий
порой пером ужас о свое существовании" ("Искушение грешника", 1988 : 54).
"И, подобно щиту останавливая в себе и мешкотствуя полету вселенничей омигеней
бессрочно, новый вид бессрочия, брызга бессмертных хлябей, и делай то, что
тебе подскажет нужда. Самотствуя, но инотствуя, станешь путиной, где
безумствуют косяки страстеногих (гривых) кобылиц, но, неся службу иной можбе,
будешь волен пасть в пасть земных долин" ("Хочу я", IV : 163).
Думается, что детального анализа здесь и не требуется, тексты говорят сами за
себя: достаточно прочесть их под определенным углом зрения. Тогда и видения,
и перо, и мнимость становятся на свои места в общей картине небытийного
погружения.
Последний пример особенно хорош. "Самотствуя, но инотствуя" - это ли не
метафора двойственного труда автора, вынужденного обращаться к "таинственной
лжи" литературы, чтобы описать то целое, поиском и поглощением которого она
занята? Это ли не выражение шизофренической стратегии художника, расщепляющего
свое сознание и "бывающего" десятью, двадцатью "Я", где совмещение черного и
белого, одновременное их удержание перед собственным мысленным взором только
несложная процедура, предваряющая действительно головоломную, психоломную
полифонию собственного Текста, окунающегося в Ничто?
Замечательно продолжение этого фрагмента (и, в то же время, окончание пьесы),
реплика Всесущини (олицетворенного Искусства?): "Можебная страна велика, и кто
узнал рубежи?". Можебная страна, конечно, то самое, бесконечное по
определению, пространство гено-текста (Кристева), "умное пространство",
совмещающее в себе и загробный мир посмертного бытования, и континуум Ц-1
многомерных, иномерных вселенных, и воронкообразное пространство перехода
(клинической смерти) - одним словом, все что угодно, так как именно в небытии,
в пустоте Текста свершается разрыв, позволяющий выкинуть какой угодно трюк;
но креацию этого разрыва дoлжно оплатить собственной смертью. А "рубежей" у
принципиально беспредельного быть, конечно, не может; "кто узнал рубежи?" -
риторика и сократовское вопрошание.
Стратегия умирания-в-тексте совершенно неприкрыто (насколько, конечно, это
может быть у Хлебникова) представлена в повести "Ка". "В другой раз, по совету
Ка, я выбрил наголо свою голову, измазал себя красным соком клюквы, в рот
взял пузырек с красными чернилами, чтобы при случае брызгать ими; кроме того,
я обвязался поясом, залез в могучие мусульманские рубашки и надел чалму,
приняв вид только что умершего. Между тем Ка делал шум битвы: в зеркало
бросил камень, грохотал подносом, дико ржал и кричал на "а-а-а".
И что же? Очень скоро к нам прилетели две прекрасных удивленных гур с чудными
черными глазами и удивленными бровями; я был принят за умершего, взят на руки,
унесен куда-то далеко" (1986 : 526).
Здесь читателю показано всё, весь метафизический стриптиз: если первый абзац
демонстрирует нам подготовку, подобную той, что мы видели в стихотворении
"Бежит, бежит ко мне мой песнемордый зверь:" (только там еще сильна была
именно интенция страха и ужаса; текст относится к 1908 году - Хлебников еще
молод и не привык к собственной "смерти", в отличие от "Ка", вышедшего из-под
пера уже опытного мастера), то второй абзац содержит сцену откровенного
умерщвления автора силой собственного детища (или, вернее, силами,
освобожденными через собственное творение).
Еще бoльшую откровенность демонстрирует одно из писем к Вяч. Иванову.
Увлеченный лихорадочными сочинениями, беспрестанным творчеством,
подстегиваемым и "башней", и Петербургом, Хлебников с головой уходит в
собственное умирание: ": Я знаю, что я умру лет через 100, но если верно,
что мы умираем, начиная с рождения, то я никогда так с и л ь н о не умирал,
как эти дни. Точно вихрь отмывает корни меня от рождающей и нужной почвы.
Вот почему ощущение смерти не как конечного действия, а как явления,
сопутствующего жизни в течение в с е й жизни, всегда было слабее и менее
ощутимо, чем теперь" (НП : 355 - 356).
Вообще, он часто примеряет смерть на себя. "Как труп - уснувший я:" - пишет
Хлебников в небольшом фрагменте "Гобая слышу зов:" (1 : 280). Или знаменитое,
"футуристское": "Мы уселись тесным рядом. / Видеть нежить люди
рады" (1 : 89). "Старым трупом" оборачивается герой в стихотворении "Ирония
встреч" (1 : 284), а "сонный труп", перебравшийся из пушкинского текста, мы
видим в "Одиноком лицедее" (2 : 255). В конце концов, Будетлянин заканчивает
свой сон (опять заканчивает!): "Мой мертвый взор чернеет точкой" (2 : 412).
Среди хлебниковских бумаг, сохранившихся в архиве М. Матюшина и переданных
в РГАЛИ, остались крайне немногочисленные и невнятные наброски задуманной
пьесы (?) "Футуродрама", где встречается предельно короткая, но страшная
фраза: "Я в трёх"
6 (РГАЛИ 527-1-101-л.6). Правда, чтобы понять ее, ощутить
холодок между лопатками, надо достаточно глубоко погрузиться в мир
хлебниковской мифологии, то есть, фактически, проделать за автором тот же
путь, путь в небытие. "Я в трёх" - апофеоз окунания в ничто, фиксация
собственного ощущения умирания в момент творческого процесса. Недаром
именно этой фразой з а к а н ч и в а е т с я так и не осуществившаяся
пьеса - констатация события смерти заменила собой потенциальный текст.
"Я в трёх" в некотором смысле противостоит гениальному Явсё, т. е. "Я"
в степени "всё", уникальной хлебниковской формуле единства бесконечного
мирового целого
7. Но противостояние это и оппозиция - мнимые, ибо Явсё
достигается только через Я3 - путь к Бытию лежит через пространство Небытия.
И это Будетлянин очень хорошо осознавал: "Ничто нам так же далеко, как и все.
Но дорога к нему так же прекрасна, как и к городу Всего" (ДС : 69).
Текст становится не просто опытом смерти, но опытом утверждающей смерти. "Бег
крови я, текут чернила; / Меня чернильница пленила:" (II : 184) - вот модель
литературы. Живая кровь смысла - символ "схваченного" Бытия, созидания и
осуществления, вечного сотворения Вселенной, чтение все новых и новых имен
Бога.
Вечное умирание-воскресение рождает чувство абсолютной свободы. Поэтому, уже
свыкнувшись с ежедневным чудом творчества
8, Хлебников делает в 1917 году
запись на сборнике "Временник": "Кощунственная насмешка над смертью"
[2 : 180]. Над смертью можно посмеяться - ведь я переживаю ее вновь и вновь,
и, оказывается, что она не так уж страшна, даже и вовсе не страшна. Так
появляется пьеса "Ошибка смерти". Но: "Победа" оказывается мнимой, замена
знака (плюс на минус, чет на нечет) обращает триумф в поражение, и чем глубже
переживается триумф, тем сокрушительнее низвержение
9. Насмешка - это,
конечно, по молодости. Позже она сменится глубочайшим пониманием
метафизического освобождения, полной "рассредоточенности" в замирном
пространстве.
Прозаический текст "Никто не будет отрицать того:" содержит такой
драматический эпизод: "Я был без освещения после того, как проволока
накаливания проплясала свою пляску смерти и тихо умирала у меня на глазах.
Я выдумал новое освещение: я взял "Искушение святого Антония" Флобера и
прочитал его всего, зажигая одну страницу и при ее свете прочитывая другую;
множество имен, множество богов мелькнуло в сознании, едва волнуя, задевая
одни струны, оставляя в покое другие, и потом все эти веры, почитания, учения
земного шара обратились в черный шуршащий пепел. Сделав это, я понял, что я
должен был так поступить. Я утопал в едком дыму, [носящемся] над жертвой.
Имена, вероисповедания горели как сухой хворост <:>" (1988 : 106).
Хэппенинг, представленный Хлебниковым, пожалуй, не знает равных во всей
русской литературе XX века. В 1920 г. ему удалось в одном "действии" дать
метафору всей культуры нашего (то есть уже прошлого) столетия. И,
одновременно, этот поджог - метафора собственно творческого процесса, личного
опыта смерти. Уничтожая имена, автор-демиург очищает мир, грунтует холст, на
который еще предстоит нанести новые знаки с тем, чтобы через сотни лет
виртуальный палимпсест был вновь пущен в оборот. Очень важны слова, следующие
за описанием сцены: "Едкий дым стоял вокруг меня. Стало легко и свободно".
С в о б о д н о! Вот чего добивается автор. Не бессмертия
1010, а - свободы!
Свободы, которая есть - смерть
11!
Закончить наш небольшой экскурс в практику умирания-в-тексте хотелось бы
поразительным провидением-предсказанием Будетлянином собственной судьбы.
Незадолго до смерти он составил небольшой список городов, стран, мест, где
бывал, своего рода перечень странствий, озаглавленный "Дорога чада милого"
(хранится в РГАЛИ: 527-1-75-л.35). Здесь столбиком написано: "Астрахань -
Москва - Харьков - Ростов - Баку - Персия - Пятигорск - Поезд - Москва".
И венчает список, написанное крупнее остальных и как бы немного сбоку,
слово : нет, не смерть, а - СВОБОДА, рядом с которым уже рукой П. Митурича
сделана приписка: "Санталово Новгор. губ. Крестец. р-н. + 28/VI 1922".
Дата и место смерти обозначили обретение свободы.
Литература:
-
1. Березарк И. Встречи с Хлебниковым // Звезда. - 1965. - № 12. - С. 173 - 176.
2. Бернштейн Д. Про страницу из жевержеевского альбома, или о Катерине Ивановне Туровой и "Хлебникове" // Терентьевский сборник. - М., 1996. - Вып. 1. - С. 163 - 215.
3. Бланшо М. Умирать довольным // Родник. - 1992. - № 4. - С. 51 - 53.
4. Бланшо М. Литература и право на смерть // Новое лит. обозрение. - 1994. - № 7. - С. 75 - 101.
5. Дуганов Р. В. Велимир Хлебников: Природа творчества. - М., 1990.
6. Иванов Вяч. Вс. Хлебников и наука // Пути в незнаемое. - М., 1986. - Вып. 20. - С. 382 - 440.
7. Лённквист Б. Мироздание в слове: Поэтика В. Хлебникова. - СПб., 1999.
8. Налчаджян А. Загадка смерти: (Очерки психологической танатологии). - Ереван, 2000.
9. Петровский Д. Воспоминания о Велемире Хлебникове // ЛЕФ. - 1923. - № 1. - С. 143 - 171.
10. Харджиев Н. Статьи об авангарде. - М., 1997. - Т. 2.
11. Янкелевич В. Смерть. - М., 1999.
Примечания:
1.Надо заметить, что известная фраза Мандельштама: "В Хлебникове есть всё!", так удивившая Н. Харджиева сходством с веберновским "В Бахе есть все!" [11 : 258] и которую так любят велимироведы (особенно В. П. Григорьев), вовсе не является преувеличением. Я не буду ссылаться на многочисленные работы, в которых этот принцип уже на примере разных, совершенно разных исследователей доказывался, будучи сопровождаем изрядной дозой удивления, неизменно перерастающим в восхищение. Скажу только о своих более чем скромных штудиях: за три года крайне напряженного изучения всего, что связано с эгрегором Велимира и попыток определения неких силовых линий, очерчивающих место и смысл его фигуры, мне ни разу не довелось отбросить в сторону какую-либо тему, исторический сюжет, чье-то имя etc. Своим уникальным мироощущением и фантастическим талантом он преодолел видимую, а точнее навязанную человеческому сознанию фрагментарность, дискретность Вселенной и передал читателю полубессознательное ощущение Единого. Религии дают это чувство, но вся соль в том, что Будетлянин (вос)создал своего рода код: его тексты, особо при настойчивом сопоставлении друг с другом и со всеми реалиями человеческой истории и культуры, преобразуются в многополярную живую систему, как бы отражающую смысл существования, его субстрат, естественно, включающий в себя все возможные ранее бывшие и еще не открытые Человеком идеи.
Увы, приходится признавать собственное языковое бессилие, но, надеюсь, этот пассаж дал некое понимание моего отношения к феномену Велимира.
К тексту
2. Ссылки на хлебниковские тексты даются по следующему принципу: Творения (М., 1986) - (1986 : 507), где 507 - номер страницы; Собрание произведений (М-Л., 1928 - 1933) - римская цифра указывает номер тома, арабская - номер страницы; Неизданные произведения (М., 1940) - НП; прозаический сборник Утес из будущего (Элиста, 1988) - (1988 : 66); новое Собрание Сочинений (под ред. Р. В. Дуганова) - номер тома, как и страница, указывается арабской цифрой (например, 2 : 45); аббревиатура ДС указывает на кн. Хлебников В. Доски Судьбы. - МoРубеж столетий; архивные документы даются после аббревиатуры РГАЛИ и указывают на хлебниковский фонд (ф. 527, оп. 1). Все ссылки на тексты Хлебникова даются в круглых скобках.
К тексту
3. Далее Хлебников излагает свои лингвосемантические наблюдения.
К тексту
4. Например, "утопить войну как сонную муху" (РГАЛИ 527-1-91-л.1).
К тексту
5. См. характерные эпизоды в воспоминаниях Дм. Петровского [9 : 159 - 160; 167].
К тексту
6. См. варианты формулировок "основного закона времени", точнее, следствий из него: "3 число упадка, убывающего ряда звеньев какой-нибудь цепи событий, и закрывая собой угол событий, идет к его тупику. <:> 3 это крыло смерти, потому что при нем, точно во время старости, события идут от жизни к смерти, по дороге к смерти:" (ДС : 81); "Родственны тройке понятия смерти:" (ДС : 79).
К тексту
7. См. у Р. Дуганова [5 : 77 - 78].
К тексту
8. Первоначально вызывавшим радостное изумление: "Я не умер! - радостное открытие" (1 : 520).
К тексту
9. Речь идет прежде всего о динамике авторского отношения: будучи создана как "чистая" художественная модель аннигиляции Танатоса (по свидетельству А. Лурье, Хлебников пьесу "очень любил и придавал большое значение" (1986 : 690), что понятно, исходя из соображений об успешной демонстрации одного из, может быть, самых наглядных способов решения проблемы смерти), в 1922 г. она вызывает чувство "мрачной, тяжелой вещи" и "подводных камней" (1986 : 690). Думается, такая метаморфоза напрямую связана с очевидной двусмысленностью финала: интерпретируемый, с одной стороны, как "разрушение театральной иллюзии" (принцип "все действие - только игра") (см. у Б. Леннквист: [7 : 115]), видимо, первоначально разделяемый и самим Хлебниковым, в контексте поздних размышлений автора оборачивается "апологией смерти" (Бернштейн: [2 : 186]) - "притворившаяся" на время Смерть, в итоге снимает надоевшую маску, которой в общем-то и нет (как в известном рассказе Э. По), демонстрируя всю бесплодность усилий по ее порабощению. Знак меняется, и вторжение жизни в смерть оборачивается все тем же привычным, банальным и беспощадным вторжением смерти в жизнь.
К тексту
10. То есть "смехотворного" бессмертия по терминологии Бланшо. Отзвуки неприятия такого бессмертия мы можем видеть, например, в тексте "О женщины! О меньший брат:": ":Где мысль о бессмертии в нерадостный брег плот:" (1 : 163) или в пьесе "Чертик", где рассуждения Черта о мертвой Вселенной прямо связываются с "голодом бессмертия", но "бессмертия с проткнутой проволокой и стеклянными глазами" (1986 : 400). Бессмертие - не в славе и признании (то, что психологи называют "социальным бессмертием" (см. в книге А. Налчаджяна [8 : 15])), а в природе творчества, в чернилах (":вы опрокинули игравшую в чет и нечет стражу и просили бессмертия у моих чернил и моего дара" (1986 : 542)); правда, таковое достигается и без них, ибо для подлинного творчества, в конце концов, необязательно физически писать (книгу). В этой связи приведем одну интригующую запись в черновиках "Досок Судьбы": "Велемиру Хлебникову безсмертье 1920 5 августа" (РГАЛИ 527-1-91-л.91). Кстати, одна из статей, относящихся к "Доскам Судьбы" носит название "Бессмертному" (ДС : 157 - 158), а один из планировавшихся листов должен был называться "Бессмертие" (РГАЛИ-527-1-л.91).
К тексту
11. См. вывод А. Кожева при анализе философии Гегеля в предыдущей статье (прим. 11).
К тексту
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы