Мы о том, чего сказать нельзя
Текст содержит ненормативную лексику.
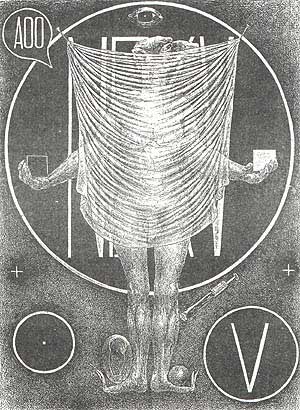
Проблемы новейших художнических опытов в области генетических трансформаций, конечно же, вплотную подходят к принципиальным и фундаментальным вопросам новой антропологии вообще с ее возможной кардинальной перекомпоновкой всей драматургии взаимодействия участников-персонажей культурного действия: автор-текст-место объявление-зритель. И желательно, насколько это возможно в наших смутных обстоятельствах и нашими слабыми силами, в попытках хоть как-то, если не разрешить, то хотя бы приблизиться к минимальному пониманию этой проблемы, не обмануться, не удовлетвориться метафорами этого процесса. А то выйдет, как в том известном анекдоте (но все же для напоминания воспроизведем его здесь):
Калифорниец приезжает из Сибири и на вопрос о том, как у них там, отвечает:
- Да у них там все другое. Даже антропология.
- Как это?
- Иду как-то зимой, а впереди меня двое. Один другому и говорит: Вась, натяни шапку на хуй, а то уши отморозишь.
Вот так.
Конечно же, проблемы новой антропологии выходят за узкие рамки проблем искусства, покрывая все пространство человеческого бытия и культуры в целом. Некоторой оговоркой в наше время служит то, что ныне уже не определимы точно сами конкретные границы и самого искусства. Все стратегии 20 века и были направлены на релятивизицию границы между профанным и валоризованным при утверждении и подтверждении сего личным художественным опытом художником и закреплении статуса прозрачности и легкой пересекаемости этой границы в обоих направлениях. Ну, собственно, как сходным образом происходит и в сфере нынешней мобильности рыночных операций, неудерживающихся реальными географическими и государственными границами, еще недавно бывшими возведенными в статус онтологических сущностей и основных государственных ценностей. Практика современного искусства является прямым подтверждением подобной ситуации в виде беспрерывной актуализации в ней все новых медиа и тематизации различных идей, направлений и идеологий – например, феминизма, негритюда или национальных меньшинств. Однако вся эта немыслимая, несравнимая ни с чем в прошлом подвижность contemporary art с ее динамикой разрушения традиционных жанров (вернее, оттеснения их в маргинальные зоны) и возникновения новых медиа не просто свидетельствует сам очевидный факт накопления их в преизбыточном количестве. Как раз именно это накопление превращает каждый последующий жест прибавления еще одного в рутинный жест художественного промысла (когда известен способ порождения художественного текста, образ и поведение художника, место объявления артефакта и способ зрительской апроприации), не производящий существенных изменений в тактике и стратегии художественного поведения и образа явления Артиста обществу. Это разнообразие медиа и одновременное пользование их одним и тем же художником обесценивает сам явленный через них текст, делая его частным случаем поведения художника. Они, медиа и жанры, в своей сумме как бы указуют в некий центр, откуда происходит назначающий и производящий жест. Текст умирает в художнике. Посему прибавление еще одной медиа, темы или способа производства текста, будь то работа и с генетически трансформированных объектов, не внесет ничего принципиального в стратегию художнического поведения, уже полностью обретшего место обитания в фантомной зоне стратегий, тактик, жестов и проектов. Оговоримся, что все это имеет значение для достаточно радикального взгляда на современный художественный процесс, в то время как в пределах вообще существования изобразительного искусства в широком горизонте, конечно же, появление всякой новации вызывает интерес, как, впрочем, общение с традиционными художественными текстами, например, сообщает личностям и целым коммунальным и социальным телам чувство стабильности, укорененности в истории и медитативной сопричастности им. Но мы не об этом.
Единство всего предыдущего человеческого опыта в области культурно-эстетических проявлений зиждилось, и до сих пор пока зиждется, на общности антропологических оснований – последней актуальной утопии человечества, порождающей ощущения единства человечества за всю историю его существования и постулирования симультанного мульти-культурного мира. То есть, все сказанное одним человеком, в принципе, может быть понято другим человеком. Физиологические изменения, накапливаемые человечеством за тысячелетия его существования пока кардинально не изменили его принципиальную ориентацию в пространственно-временном континууме. Правда, сумма накопленных, особенно за несколько последних веков, физиологических и культурных трансформаций уже приближается к критической, чтобы стать причиной возникновения уже ново-антропологических сдвигов, существенно перекроивших бы восприятия окружающего космоса и вместе с ним восприятие и квалификацию всего предыдущего культурно-эстетического опыта человечества.
Небольшие типологически сходные примеры мы имели и постоянно имеем в нашей реальной исторической действительности, когда уход из жизни какой-либо социо-культурной практики, коррелятом которой был определенный тип художественной деятельности, резко изменял ее статус от, скажем, высокого, до вульгарного, низового, кичевого, или наоборот, либо вообще выводил за пределы возможности актуального эстетического прочтения, либо даже прочтения вообще. Можно привести пример кардинальной переоценки практики иконописания и оценки икон в новое время, когда икона, бывшая в церкви сакральным предметом (иногда почерневшая и полностью закрытая окладом в качестве сакральной ценности превосходившая все другие), перенесенная в музей оценивалась уже по критериям колорита, композиции, рисунка и т.п. Вещи шамана, являвшие в его сакральной практике нерасторжимое ритуально-перформансное единство, в этнографическом музее могут быть разнесены по различным тематическим разделам – инструменты, одежда, тексты и т.д.
Именно современная урбанистическая культура (особенно, в пределах все разрастающихся в размерах и количественно нарастающих мегаполисов) весьма существенно изменила основные параметры человеческого существования, вплотную приблизившись к проблеме новой антропологии. А и то – урбанизм порушил привычные суточные и сезонные временные циклы, разрушил не только большую, но и традиционную семью, отделил любовь от деторождения (сексуальная революция и реабилитация нетрадиционных половых ориентаций), отделил, почти уже отделил деторождение от репродуктивных способностей человека (производство детей в пробирках и подступающее время клонирования), объединив скоростью и интенсивностью передачи информации большие мегаполисные образования (почти отменив все прочие, неосвещенные информационным прожектором гигантские заселенные пространства), интенсифицировал мобильность перемещений в пределах как одного города, так и в пределах всего земного шара, что превратило способность к мгновенной ориентации и переключению кодов восприятия и поведения в основную добродетель и стало основным фактором удачливости и даже выживаемости в современном мире.
Понятно, что варианты художественной и институциональной стратегии целиком находится в зависимости не только от сути социальных изменений, но и от сути и динамики антропологических сдвигов. Ежели таковые будут не катастрофичны, то, видимо, искусство так и останется обитать в привычной зоне, обслуживая привычные нужды привычным способом, пластифицируя в новые медии свои привычные жесты и стратегии и наоборот – в привычные жесты и стратегии вводя новые медиа и темы. В сложившейся ситуации, при стремительной скорости общественных и культурных процессов, когда культурные поколения сжались почти до 5-7 лет (и это явно не предел), когда прошлым и неактуальным становится буквально вчерашнее (даже еще не успевшее до конца овладеть многими умами и сердцами), находящееся в живой памяти еще достаточно молодых людей, но уже имеющее статус прошлого, вряд ли можно себе представить крупные опережающие социо-культурные эвристические идеологические прорывы. Думается, что основные прорывы следует ждать (как, собственно, это и манифестируют многочисленные радикальные и авантюрные исследования) в области виртуальных технологий и новоантропологических изменений.
Однако, заметим, что если на пути исследований и эвристик в сфере виртуальных технологий мы не встречаем сколько-нибудь серьезных препятствий и возражений нравственно-этического порядка, то новоантропологические исследования и эксперименты находятся не только под сомнением и нравственным отвержением, но и под реальным запретом законодательств многих стран. И это понятно. Это объяснимо. В предыдущих культурах мы находим многочисленные аналогии виртуальным стратегиям в виде различных практик измененного сознания от галлюциногенных и экстатических до медитативных и ритуальных, вошедших в практический набор современных социо-культурных феноменов в различных сферах деятельности от религии до рока, от потребления в безразмерных количествах алкоголя до послаблений в области наркотиков. Однако же на пути нео-антропологических опытов лежит (во всяком случае, в пределах иудо-христианской культуры) глубинные, архаические страхи и фобии и, соответственно, запрет, отсылающий к постулату: человек – образ и подобие Божие. Отсюда вытекают основные негации разного рода опытов, понимаемых как бого-уподобления и бого-борчества. Наиболее основательно разработанным в культуре и часто употребляемым отражением этой ситуации в различных видах искусства являются сюжеты про Голема и существа, порожденного доктором Франкенштейном. В данном же русле лежат и государственные запреты на подобного рода эксперименты. Однако же, все-таки человечество постепенно, посредством проигрывания различных сюжетов шаг за шагом примиряется, привыкает к мысли о возможности существования жизни в неантропоморфном образе. И, надо заметить, что именно кинематограф и именно Голливуд, переняв многие функции высокого искусства в проигрывании высоких интеллектуально-технократических мифов (попутно повязав их с «низкой» народной природно-фантазийной утопией), наиболее ярко и убедительно в последовательности производимых им продуктов (от, скажем, Alien-1 до Alien-4) прошел путь от утверждения, что все неантропоморфное принципиально и неотвратимо враждебно человеку, до утверждения, что мир делится не на хороших людей и плохих монстров, а хороших людей и монстров и на плохих людей и монстров.
Однако же, если осуществятся некие ново-антропологические утопии, трудно сказать, какое место в них займет искусство, каким способом будет перекроено распределение ролей системы художник-культур-потребитель. Да и вообще, как будет прочитана вся предыдущая культура? Насколько она будет конгруэнтна новому времени и какая страта, институция и профессиональная группа возьмут на себя осуществление и реализацию социо-культурных и эстетическо-поведенческих функций, если таковые останутся в виде более-менее напоминающем наш. Или же эти функции будут равномерно размазаны по всему человечеству, временами, для исполнения какого-либо специфического проекта, концентрируясь в определенных группах или даже в конкретной личности. Конечно, подобные радикальные сюжеты вполне могут не реализоваться. Так и остаться кошмарными воображениями культурных маньяков. А, собственно, кто мы такие и есть-то? Мы и есть вышеназванные маньяки. Ну, не все. Некоторые.
Так вот, все-таки, говоря о надвигающейся виртуализации культуры и о проблемах новой антропологии, вообще предполагающих серьезные перекомпоновки как иерархии и значения родов культурной деятельности, так и принципиальном переводе их на новые носители информации и в новые антропологические пространства другой разрешающей мощности и, возможно, даже иной конфигурации, заметим, что нынешние художественные проекты с генетически-трансформированными объектами в пределах существующих понятий, поведенческих моделей, структуры и институций современного искусства сами по себе имеют малое отношений к прямой сути нашего рассуждения. Как ни может показаться странным, но это так. Произведения эти сами по себе включаются в огромный ряд текстов, производимых современными художниками в различных медиа. При всей их необыкновенности они вполне сопоставимы, по эффекту производимой ими необычности, с необыкновенностью появления в сфере изобразительного искусства хепенингов, первормансов, акций, видео и компьютерных инсталляций, по всем своим половым признакам вроде бы не могущим принадлежать сфере искусства изобразительного. Ничего, прижились, каждым новым появлением только обесценивая текст в своей существенности и единственности, утверждая и обнажая примат поведенческой модели существования художника в современном мире. Однако, однако, не то что оговоримся, но отметим следующее. Как описанные изменения в способе существования и вписывания в рынок и гражданское общество современного искусства кардинально изменили роль и способы функционирования институций современного искусства и их взаимоотношений с художником, так, несомненно, упомянутые опыты с генетически-трансформированными объектами достойны особого внимания и поминания по той причине, что способствуют существенной перекомпоновке уже давно определившейся драматургии явления артефакта в социуме и культуре. Задействованность в этих проектах не только отдельных ученых, но и целых научных коллективов, способ производства, положенный в сфере научной практики и даже научной институции, сам продукт, находящийся на границе эстетического объекта и продукта научного эксперимента – все это не провозвестники ли вышеотмеченных перемен?
К этой же категории объектов, в сущности, можно отнести результаты различных операций по трансплантации на зверях и человеческих существах. И если сразу же представить наиболее предельный вариант этих операций, то по мере нарастания возможности трансплантировать в человеческий организм все большего числа чуждых органов от иных антропоморфных организмов мы постепенно сталкиваемся с нарастающим количеством социальных, религиозных, юридических и персонально-идентификационных проблем. При какой массе, количестве и каких именно имплантируемых органов (поскольку, привычно, человек, по большей части, ассоциирует и идентифицирует себя со своей головой и мозгом) остается идентификационное единство личности? Кому должны принадлежать, к примеру, права наследования, если не имеющий наследников донор делегатировал реципиенту определенное количество своих органов? А если это множественный вариант? А если в одном организме случаем объединяются два художника? В наше время, когда подпись, имя зачастую доминируют над самим текстом, будут ли новому существу принадлежать права подписи произведений обоих? И кем, вообще, считать себя в этом случае? Или подобные вопросы не будут иметь никакого значения, а предстанут столь архаичными, все равно что наличие в прошлом всевозможных дворянских титулов для гражданина Соединенных Штатов Америки.
Но если прослеживать дальше намеченную линию возможных трансформаций, то, пожалуй, имеет смысл рассмотреть самый радикальный случай подобных изменений. И не для того, чтобы утверждать его неодолимую и неогибаемую неизбежность, но чтобы обнаружить предельно далеко вынесенную виртуальную точку эвристической экстраполяции, откуда, обернувшись, легче обнаружить наиболее болевые точки этой проблемы. Так вот, мы о клонировании. В случае нашего сугубо эвристического и абстрактного рассуждения мы не принимаем во внимания всевозможные, впрочем, вполне оправданные и порой неопровергаемые возражения по поводу всевозможных природных, семейных, культурных и прочих разнообразий, не позволяющих ныне и не могущих позволить в будущем унифицировать как процесс воспитания, личностные особенности взросления, так и способы реализации личности в социуме. По этому поводу можем лишь слабо возразить и привести в пример все возрастающую и неодолимую унификацию урбанистической жизни во всем мире.
Так вот. Как известно, вся мировая культура и все мировые культуры построены, зиждутся, как бы подвешены, как на неких столпах, на трех основных экзистемах – травма рождения, травма взросления и травма смерти. В случае же с клонированными существами мы не имеем ни одной из этих травм. Даже травма смерти преодолима фактом параллельного существования другого клона, либо воспроизведения нового из исчезающего. То есть, не идет речь об исчезновении уникального и невоспроизводимого существа, даже в смысле идеи индуистского перерождения. Да и проблема убийства предстанет в новом социуме в ином качественно-количественном модусе. Собственно, уничтожение единичного организма не есть уничтожения персонального существования. Приходит на ум апокрифическая средневековая идея коллективной души животных. Так сказать, душа всей коровности, что и убийство одной коровы не является погублением живой души как в случае убийства человека. Соответственно, можно представить себе и коллективную душу клона, со всеми вытекающими отсюда следствиями и проблемами борьбы за власть и взаимного уничтожения семейств клонов. Но мы не об этом. Мы о том, в каком виде и конфигурации предстанет этой странной (на наш, конечно, взгляд) форме существования антропоморфных существ наша нынешняя культура и искусство, в частности. Некие существенные позиции и болевые точки нынешней культуры, связанные с уже помянутыми, например, идеями, комплексами, травмами рождения, взросления и смерти, будут вполне неявны новому обитателю планеты. В то время, как другие, спрятанные, неявные, неактуализированные, маргинальные и почти не воспринимаемые нами пласты художественных произведений и, вообще, культурного наследия неожиданно могут вырасти в своем необыкновенном значении и актуальности. Да, собственно, оно и не раз бывало в истории человечества, но, пожалуй не в столь катастрофической форме и размере, предполагаемых нами. А, скорее всего, подлобного и не будет. А если будет, то не в такой форме. И не вскорости, а постепенно-постепенно, что никто и не заметит. Только оглянувшись лет так на сто назад воскликнет: Надо же, а мы и не заметили! Ну, конечно, возможны и вполне иные варианты.
Но это уже разговор для другого случая.
2002
В качестве иллюстрации использован рисунок автора.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

