На гранях кристалла
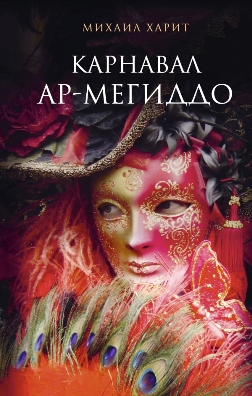 Сборник прозы Михаила Харита «Карнавал Ар-Мегиддо» стал для меня открытием. Несмотря на то, что по долгу издательской деятельности через мои глаза проходит огромное количество современной прозы самых разных жанров, я редко обнаруживаю такой бриллиант.
Сборник прозы Михаила Харита «Карнавал Ар-Мегиддо» стал для меня открытием. Несмотря на то, что по долгу издательской деятельности через мои глаза проходит огромное количество современной прозы самых разных жанров, я редко обнаруживаю такой бриллиант.
Сравнение с бриллиантом является в данном случае вовсе не напыщенной лестью, а вполне конкретным определением принципа построения данной книги.
Бриллиант, как и любой кристалл, имеет множество граней, каждая из которых является неотъемлемой частью этой переливающейся микро-вселенной. Точно так же организовано пространство книги Михаила Харита – в ней все тексты являются некими гранями, составляющими вместе цельный мир кристалла.
Каждый текст – это отдельная история, отдельный жанр, отдельная атмосфера, отдельный стиль изложения и отдельные аллюзии. Но в целом эти тексты образуют единую вселенную произведения, в котором одна грань не может существовать без другой.
Рассказ-мистерия «Карнавал Ар-Мегиддо», давший название всей книге, является безусловно знаковым, он выступает в качестве спойлера к тому, какие встречи ждут читателя на протяжении этого сборника.
Сюжет рассказа наследует повестям и рассказам Рэя Брэдбери, как и некоторые другие тексты книги: есть некие персонажи в параллельной вселенной или другом мире, которые куда-то движутся, но по сути это путь к обрыву. Евангельское прочтение личности каждого персонажа, встраивание его в некую условно библейскую систему напомнило мне последний фильм Алексея Балабанова «Я тоже хочу», где герои (условные блудница, убийца, мытарь, пьяница) едут на автомобиле то ли к смерти, то ли в бессмертие. Уместно прозвучит и отражение текста в зеркале «Десяти негритят» Агаты Кристи, где несколько грешных людей стихийно собираются вместе, предвкушая прекрасный отдых на живописном острове, но не тут-то было…
Язык этого рассказа метафоричен настолько, что в этом сквозит настоящая поэтичность – то есть автор создаёт некий синтез жанров. Я могла бы назвать «Карнавал Ар-Мегиддо» чем-то вроде стихотворения в прозе.
Во втором рассказе «История с привидением» проступают черты «Кентервильского привидения» – и не только из-за некой схожести сюжета, но и благодаря искрометному юмору обоих произведений.
Позволю себе привести в пример цитату из «Истории…», которая теперь меня не оставляет:
«…Ближе к полуночи Владимир Константинович привык к подушке, между ними возникла незримая связь, похожая на супружескую. Она поддавалась, когда он надавливал.»
Но если этот рассказ самый весёлый в сборнике, то следующие два реально пугают – «Bon weekend» (слияние бала у Воланда и последний ночи Хомы Брута в церкви) и «Хозяин дома», причём второй текст – самый подкожно жуткий, по нему впору снимать фильм режиссёру Дэвиду Линчу. Автор рассказывает фантасмагорическую историю о том, как молодая мошенница попадает в потустороннюю западню, где её жизнь подменяют новой реальностью. Фигура Хозяина Дома предстаёт перед читателем некой хтонической сущностью вроде Вия. Хотя нет, здесь даже больше уместно говорить о европейских традициях литературного триллера, поэтому сравним его с исполинами из романов Стивена Кинга. И послевкусием остаётся ощущение безнадёжности, абсолютного тупика. Ловушка захлопнулась.
Сразу после автор предлагает читателю небольшой передых или переключение регистров рассказа «Поговорили».
«Все мы наивны, как аквариумные рыбки, полагая, что Вселенная ограничена стеклом, а жизнь понятна и предсказуема: утром появится свет, днём покормят, ночью станет темно».
Текст этот полон приметами нашего времени – упоминаются пандемия, Харьков и другие болезненные реалии. Именно начиная с «Поговорили» я обнаружила, что проза Михаила Харита есть перекликается с прозой фантаста Александра Кацуры, которого нежно люблю. Это же эхо переливается в следующую мини-повесть «Корректировка», и к нему добавляются другие голоса – Элеоноры Мандалян и, конечно же, Кира Булычёва. Но голос Михаила Харита в этих своих произведениях не воспринимается как подпевка или вторичное пение, это уникальный мощный голос, который гармонично звучит в полифонии тех, кто направляет звуковое послание в гулкий Космос.
Следующий рассказ «Настройщик» тоже интонирует в своей космически-реалистичной тональности, свойственной автору, и даже рождает некий термин, который я тоже сохраню для себя, поскольку он всеобъемлющ для нашего времени – «планета порхающих дураков».
Грани кристалла продолжают поворачиваться по часовой стрелке, следуя за Временем, и вот уже перед нами два рассказа по сути об одном и том же. «Страшнее правды» (внезапная перекличка с Анатолием Алексиным) и «Школьник» – истории о становлении человека Человеком на стыке эпох, о его взрослении, о его выборе пути.
Путь, впрочем, не всегда оказывается Путём Высшего предназначения, но это не главное.
«Он окончил восьмой класс. Впереди взрослая жизнь. Может забрать документы из школы и пойти работать на завод или комбинат парковой скульптуры. Мало ли чего ещё можно сделать, а не только сидеть под юбкой у Ольги Владимировны. Можно ограбить сберегательную кассу, залечь на дно, а потом уехать в Сочи. Гулять в белом костюме и играть в карты с фартовыми людьми».
Гораздо важнее другое.
«Золотистый янтарь сиял на окровавленной детской ладошке» – вот такой диаскопный слайд я бы поставила заставкой к этим текстам. Прошлое застыло как муравейка в янтаре, а тело янтаря подогрето человеческой сукровицей. Одна из самых пронзительных метафор книги, на мой взгляд.
Главный герой Андрей как бы перетекает, плавится из одного текста в другой, оставаясь собой и становясь узнаваемым по «бабке за рубежом».
Так, например, в следующем рассказе «Пять жён Андрея» он попадает в какие-то опять дэвидолинчевские реалии под слоганом «вы все живёте в загадочной пустоте». Ну да, а где же ещё.
Кстати, и в следующем рассказе Андрей продолжает дышать. Но рассказ «Ибо положена печать…» очень сложный для читателя, на мой взгляд, и оттого ещё более привлекательный – эдакая диковинная головоломка. Тут автор безжалостно срезает фабулы, и то ли строит некоторые сцены на флешбэках, то ли приводит нас в новую реальность, сотканную из ночных кошмаров, где неизбежно погибнут все. Оттого ли, что грешники? Нет, скорее, оттого, что печать на каждом из нас.
В этом же аккорде звучит следующий текст «Дандотиа», он как бы помогает оттенить вкус предыдущего рассказа о вечной смерти идеей о том, что всё живое хочет жить.
«Все хотят жить. Если бы микробы, подобно демонам, могли внушать людям мысли, они объявили бы микробиологию лженаукой, антивирусные препараты — дьявольским порождением. Мыши уничтожили бы мышеловки. И все жили бы себе припеваючи».
А вот и Апокалипсис воссиял новой гранью драгоценного камня. «День, который человечество пережило» – стопроцентное вставание в один ряд с уже упомянутым мною Рэем Брэдбери, как по сюжетной начинке, так и по силе высказывания.
На фоне разворачивающегося Конца Света мальчик теряет друга. Медвежонку Панакотику не пришили голову, поскольку эта тихая и доверчивая смерть должна была стать осознанным финалом всего.
«Голос у мамы был усталый и спокойный. Она не понимала, что близкий друг погиб, а убитые не оживают. Как не воскресли бабушка с дедушкой. Он хотел расплакаться, но не смог. Слёз не было. Оттолкнул мамину руку, взял искалеченные части медведя и вышел из дома. Он закопал Панакоту под большой сосной в мягкий песок, щедро смешанный с сосновыми иголками. Густая крона надёжно защищала могилку от дождя. Сверху подгрёб холмик, который получился золотого цвета, как шкурка друга. Погладил ладонью тёплую почву, ощущая пальцами тело умершего. Сверху на руку упало несколько капель янтарной смолы. А может быть, мёда. А возможно, это были слёзы дерева».
А дальше следует великая битва, и кто победил – остаётся на самом деле за кадром.
Вслед за этим возникает череда рассказов, каждый из которых неуловимо наследует кому-то из великих, но звучит на свой лад, как умеет только Михаил Харит. «Бомж Серж» воспринимается мной как диалог с Виктором Голявкиным, «Рождественская история» – безусловный оммаж Гансу Христиану Андерсену со всей его скрытой, а иногда и явной библейскостью и теориями рождения мира. «Вечная любовь» – история жизни, основанная на каламбурах, которая вообще относит нас к сатире 80-ых. «После дождика в четверг» – прочтение Тургенева в новой реальности. Серия сказок, предваряющая эпилог – это опять-таки полифония с детско-взрослыми сказками Петрушевской, с зарисовками Виталия Пуханова про одного мальчика и одну девочку, с Сергеем Лукьяненко, описавшем в «Ночном дозоре» битву воинов Света и воинов Тьмы, и даже с Салтыковым-Щедриным, прочтённым автором на новый лад (нью-грязевский доллар в новой республике).
В финале читателя неожиданно ждут трактаты, которые как бы подводят черту этого сборника.
…Вот так я проворачивала неверной рукой этот бриллиант перед глазами, близоруко щурясь. Граней у драгоценного камня множество, но он образует единую вселенную.
Но вот теперь скажу о главном. Особняком в книге стоит рассказ «Несправедливость», который я сразу по прочтении разослала своим близким, потому что не могу точнее выразить свои мысли о том, что сейчас происходит в мире, а Михаил Харит смог это сделать за меня и за всех нас. Поэтому лично для меня «Несправедливость» – это главный текст всей книги. Не просто грань бриллианта, а вспышка преломлённого на ней электрического света.
Пусть будет Свет.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

