ЗАПИСКИ ДАНТИСТА
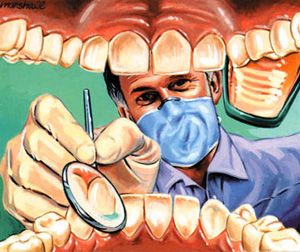 |
Холодна и бледна, как первый снег.
Нервно подергивает ворот рубашки.
Дрожит.
Сдержанно ложится на бледно-холодную сестру-близняшку.
Замирают.
В глазах
(таких беспомощных!) -
робость и страх доверия, надежда за узеньким
– от безжалостности лампы –
зрачком.
Овцы на заклание.
Улыбаюсь спокойно.
Уверенно подвязываю салфеточку на эту шею с подвижным кадыком.
Скрываю брезгливость, усталость, скуку.
- Ну-с, посмотрим...
Я – дантист. Каждый день, согнув позвоничник в вечный вопрос,
я вожусь в скользких, влажных ртах. Меня ненавидят и боятся.
Лицо мое, по выходным темный ворот свитера;
руки, не затянутые в латекс, все же вызывают на лицах знакомую
неприязнь и смятение. Своим приходом на вечеринку я мог бы испортить
праздник многим.
Хорошо, что я не хожу на вечеринки.
И все же в этой професии есть серьезное преимущество: каждый день
мне приносят новые души, рвущиеся навстречу из темных глоток.
Порой они довольно дурно пахнут, а на вид
– жалкие слизняки, ничего больше.
К ним у меня давняя, болезненная, роковая страсть.
Лишь они – на мгновение – могут пошевелить мое тяжелое, старое,
полумертвое любопытство.
Дрожь пальцев, загнанный взгляд не вызовут сострадания: зубная
боль сведена к сухим параграфам стоматологических энциклопедий;
длинным
– дождевые черви в весенних лужах –
цепочкам химических реакций.
Скучная аксиома, унылая теория. Поэтому, говоря пациенту «понимаю
вас», я бессовестно лгу: у меня идеальные зубы, они никогда не
болят. И рот я открываю только перед зеркалом – ни один лекарь
не увидит сквозь него мою душу. Ее я приберегу. Для особых случаев.
Пусть несчастные трясуться в очереди там, за дверью.
А потом часами сидят в нелепой позе
– рыбы, брошенные на песок безжалостным прибоем.
Пусть жмурят глаза, возносят брови к линии волос, изуродованой
днями, проведенными в страхе.
Вот заходит – сдобная и вальяжная, обычно красивая. Сейчас
похожа на прокисшее пирожное из кондитерской на углу.
- Доктор, а нельзя ли меня совсем усыпить, чтобы я не чувствовала,
как Вы его
вырываете?
- Ну, если только меня усыпят с Вами...
Мои грустные шутки до них не доходят – это я понял давно, но смотреть
на этот цирк без смеха все равно невозможно. Выкручиваюсь один
– эдакий
юмористический онанизм.
А вырвать зуб – пара пустяков. Обнажил беззащитные корни элеватором,
ухватил клювиками покрепче... Работы на минуту, в кармане сотня.
И время падает на язык красными каплями.
***
Не знаю, сколько продолжался этот нелепый спектакль с переодеваниями:
словно один и тот же актер заходил ко мне в течение долгих столетий,
меняя голос, одежду, парик, запах. А я из вежливости не подавал
виду, хотя внутри ценил бессмысленную и искусную его игру, приподнимая
веки от удивления, надеясь на скорый финал...
А потом пришла она. Это случилось вечером.
Когда голова боится собственных глаз,
скатывающихся по белому халату к усталости ног.
- Доктор, к Вам пациент с острой болью.
Родной противный голос.
Звук шагов где-то в начале коридора... «сюда, пожалуйста»...
Есть пара вздохов на подготовку. Я уже знал, что сказать этому
несчастному созданию.
Страх безграничен, но управлять им легко: из страха они платят
втритодога или отказываются от лечения, из страха дарят ласки
или капризничают, из страха избегают меня или приглашают в гости...
и что бы они ни выбрали – решено мною. Я
позволяю им выбрать нужное мне решение из вереницы пестрых перспектив....
Я так же тщеславен, как и они?
Да.
Разница лишь в том, что мне это не доставляет удовольствия...
В общем, отправить очередную жертву домой с баночкой антибиотика
в замерзших лапках казалось делом решенным:
...возможно, потребуется дорогостоящая операция;
...процедура займет около 3-х часов;
...мандибулярный нерв может не поддаться анестезии ввиду чрезмерного
воспаления тканей, поэтому безболезненность гарантировать не могу...
– сколько в моей коллекции фраз, жестов, улыбок! Я решил принять
позу под названием «скучающий садист»: ноги беспорядочно разбросаны
перед стулом, руки накрест на груди, большие пальцы хищно торчат
из-под мышек, взгляд исподлобья, прочно зацементированный оскал...
Кульминация каблучкового стука прозвучала барабанной дробью перед
смертельным номером
– и в проеме загорелась рыжая грива. Неловкий рот, прозрачная
бледность холодного тела принадлежали, казалось, кисти Климта.
Руки самостоятельно мерцали, образовывая на темном тканевом фоне
правильный эллипс.
И не важна была моя любовь к полотнам этого невероятного художника,
не существенна самобытность ее красоты, не принципиален контраст
ее лица с убожеством каждодневных лиц, включая зеркальное... Она
была спокойна.
Грустна, замкнута, покорна.
Но зрачкам не было тесно в матовых глазах, лицо не старалось принять
форму, удобную собеседнику, слова не сыпались с холма языка неуемными,
грязными, суетливыми камнями
– как они вечно пытаются опередить друг дружку, накрыть предшественника
с головой, поднять побольше пыли, не оставить места к отступлению...
Молча, незаметно она стала частью кресла.
Так же невзначай я начал работать: осторожно проткнул иглой в
нежную
розовость – она ровно выдохнула; медленно ввел новокаин – глаза
смотрели за окно, в холодную темень; сверлил, открывал канал,
доставал нерв – она думала о чем-то.
Ассистентка Наташа затаптывала недовольство белоснежными ступнями,
рисовала угодливую улыбку меж веснушками, секретарша Лора многозначительно
покашливала, уткнувшись в бумаги,
а мы были далеко. В ресторане, что-то вроде помпезной «России»
или обкуренного «Ташкента». Она – за соседним столиком рядом с
отвратительным толстяком. Открытое алое платье притягивает все
шесть сотен глаз зала – лживого в
велюровости картонных стен,
хрустальности пластиковых кувшинов.
Рыжие волосы отражаются в них, окрашивая невкусную воду в «Фанту».
Едят молча, оправдываясь грохотом совковой попсы,
стекающей со сцены водопадом.
Один за столиком.
Пью водку, искусно изображаю ностальгию.
Подхожу к столику, воспользовавшись отсутствием ее обаятельного
в своей
гамбургерско-хотдоговской жирности спутника.
Нежно трогаю хрустальное запястье с яркими прожилками – и вот
мы уже танцуем под фальшивые ноты какой-то до боли знакомой песни.
Она не улыбается смущенно, слушая мой пьяный развязный бред,
не отстраняется от руки, липнущей к алому шелку.
Матовые губы медленно, значительно раскрываются,
но клешня жирного господина хлопает меня по плечу в момент, который
сложно назвать подходящим.
Конечно, я бью его по желеобразной щеке,
конечно, он падает,
конечно, она отходит подальше с кровожадным интересом в глазах,
а ко мне направляются неприятные широкоплечие парни, ранее стоявшие
на входе, скрестив руки наподобие футбольных защитников...
Жаль, так и не успел узнать, что произошло дальше, – привел в
чувство ледяной голос Лоры, ехидно сообщавшей о конце своего рабочего
дня.
Поставить на больной зуб самую хлипкую пломбочку, коварно притаиться
в ожидании дня, когда это странное создание снова сядет в мое,
чего греха таить, довольно неприятное кресло, вытянет дивные ноги...
Может, тогда вечно недовольная Лора выйдет хотя бы в туалет, а
вездесущая Наташа сольется с телефоном в одно целое и забудет
о нас – и тогда я придумаю что-нибудь.
Я вымолю у нее хотя бы чашечку кофе в любой забегаловке этого
шумного города, курчавый конус мороженого на скамеечке в парке...
я расскажу ей о моих снах,
о безысходности, о пропитанном страхом воздухе, о...
абсурд, чудовищная нелепица... ты себе не можешь объяснить, что
все таки происходит, когда сон сменяется сном, откуда берутся
плотные предметы и прозрачные люди; ты не можешь сформулировать
вопрос, на который ищешь ответ, и хочешь рассказать... кому?!
Как мило было бы еще раз сойти с ума...
Так
– в ужасе –
вышел на улицу.
Небо упало на голову белой холодной стеной снега.
Стояла у моей одинокой машины.
Волосы украсили снежинки.
Ехали в пустой дом медленно, растягивая ожидание, как остаток
шампанского в бокале.
Белые простыни и черный телефон.
Не по-женски молчалива и не по-мужски трогательна.
С любопытством ребенка трогает мое спящее лицо,
царапает бровь французским ногтем
...и улыбается.
Все это происходило, пока я ехал в ресторан.
Один.
Да, сидел за столиком и тихо напивался, впуская в тело безумную
жалость.
О том, как ярко и сочно виделась мне она
в алом шелке,
в бледном мерцании беззащитного тела.
Как ясно ощущал я мягкость волос на щеке, хрупкость ногтя на брови,
запах...
Я жалел даже о том мерзком толстяке – ведь и он стал частью этой
бесконечной игры с реальностью.
***
Ночь считается удачной лишь при полном отсутствии снов.
Как сладко бросится в эту темную кладбищенскую яму, забросать
тело черноземом простыней и умереть хотя бы на пару часов.
Часто сны дня лишь переодеваются в ночные одежды и начинают свои
призрачные танцы. Сегодня они кружились до утра, и лишь с рассветом
разрешили забыться.
Именно тогда снова зазвучал Верди – невозможно поверить, что когда-то
любил эту арию. Дать будильнику по тупой, блестящей морде, открыть
глаза.
Просыпаться в темноте и одиночестве не так страшно, главное -
не видеть исчезающих лиц.
Тая за розовым утренним тюлем, они вызывают тошноту и головокружение.
Люблю наблюдать за лицами, глядящими в упор, – в светлые дни это
дает хрупкую надежду на их подлинность.
Присмотревшись, понимаешь, что лучше бы они исчезли.
Лицо ассистентки Наташи
упрямо смотрит прямо.
Что-то утверждает
идеальностью керамических зубов,
жирным блеском губ,
отрядом веснушек, разбежавшимся по широким скулам...
Глаза настойчиво исследуют мир, не упуская мелочей.
Им не свойственно пониматься к облакам.
Они знают практически все.
Блекло-голубые, с выкрашенными в лиловый ресницами, они напоминают
весенний Крещатик, откуда принесла ее нелегкая лет десять назад.
...мерзкие люди, бесконечные допросы, паника в глазах узколобого
рэкитира-мужа, пачки денег, исчезающие в бездонных ящиках прокуратуры,
чемоданы, небесная яма, выдох последнего родного кислорода, блеск
аэропорта, оскал чужих зубов, тридцать сортов колбасы в магазине,
выматывающая работа, одиночество, поиск друзей, дни рождения,
ликеры, роды, домик-близнец в организованной толпе собратьев,
болезни, вторая машина, банковские кредиты, телевизор с плоским
экраном, ссоры, дети, едва понимающие русский, два турецких платья
от Gucci, отпуск в Майами...
Все. Больше Ничего Не Будет.
Страшно...
будничным, светлым днем вздрогнуть от холода этого огромного,
темного исполина, прошедшего рядом и лишь тенью задевшего дремлющее
сознание. Можно выпить водки, заплакать, взять книжку, пойти в
церковь, позвонить приятелю, купить обновку, написать стишок,
впасть в меланхолию на целый... час. Так, не желая просыпаться,
натягиваешь одеяло на голову, уничтожаешь тревожные мысли теплом
расслабленного тела.
С Наташей все было проще: ограниченное количество серых клеточек
надежно защитило ее от ненужных душевных метаний, а легкая депрессия
исчезла под давлением вечной занятости.
С тех пор внутренняя пустота тщательно заполняется деятельной
беготней
– суета муравья под нависшей ступней –
и мелкими проявлениями жизни других мурашек. Каждый день кто-то
покупает новую машину, изменяет супругу, надевает немодное платье,
бросает странное слово – вакуум оказался прожорливым, он должен
хорошо питается. Все факты тщательно обсасываюся, глотаются, а
потом долго перевариваются, сытно бурча.
Небесная пустота ее глаз вытянула меня не из одной призрачной ямы.
Их голубая блеклость всегда возвращала, словно сигнал стоящей
позади машины –
спасительный красный исчез,
отвратительная зелень снова заставляет двигаться.
куда... счастливцу невдомек, что
некуда.
Идти некуда.
Каждое утро заражаться Движением. Не важно, в какую сторону.
Говорить «все к лучшему», «как дела», «жизнь коротка», «цены растут»,
«везет дуракам», «биржа»...
уже бодрит, включаемся...
«красивый галстук», «ну кто же так поступает», «а какой был снег
раньше», «экстремизм», «несовместимость характеров»...
неподдельная улыбка, глубочайшее сочувствие и вселенская...
«бог – это любовь», «стихи на ночь полезно читать», «Высоцкий
кололся», «совесть», «гениально»...
и, как вишенку на вершину торта...
«карма», «холестерин», «это слишком дорого», «политика – грязное
дело», «давно пора», «там хорошо, где нас нет»...
Эдакий бодрый, энергичный, деятельный, уверенный...
Спасительный.
Сон?...
Электронный кусок из «Аиды», призванный будить, свихнулся давно
и надолго.
Навсегда?
С уверенностью безумца
каждое утро погружает в то, от чего должен будить.
Ласково оплетает мозг теплыми пальцами,
двигает лица перед запотевшим кристалликом.
Это ненавистный и обожаемый сон.
Может, поэтому ненавижу и люблю эти лиловые ресницы, утреннюю
неизменную улыбку
– апексотомия на левом клыке.
«Доброе утро, доктор!».
Прощаю ей бесконечную телефонную болтовню, походы по распродажам
в рабочее время, неряшливость, безграмотный русский и корявый
английский. Даже...
Новый пациент.
Весь золотой фонд Советского Союза в расщелине рта-неулыбы.
В детстве ему сказали, что настоящий мужчина ничего не боится
– и он
вот уже сорок какой-то год судорожно пытается этому званию соответствовать.
Жена думает, что безуспешно (ей, как ни странно, сказали то же
самое – лишь на пару лет позже). Она уже давно не ищет образ Того,
втиснутый добрыми взрослыми в узенький,
как амбразура,
кругозорчик.
Говорит долго и внятно, раскрывая перед кивающим незнакомцем всю
красу инженерного образования, скрывая страх за жестами, по-жонглерски
доставая слова из ниоткуда
– эти румяные уродцы рождаются, не оплодотворенные мыслью,
волшебство да и только...
Мечта выглядеть белозубым подтянутым бизнесменом
(белые шорты, любовница, заветная новенькая Тойота прилагаются)
привела его ко мне. Этот милый, курчавый страдалец принес магу-дантисту
накопленные за несколько лет деньги.
Он ждет чуда.
Нет ничего проще. Улыбаюсь, включаю музыку, направляю лампу на
палевую ниточку губ...
И тут он буквально выскальзывает из кресла, таращит глаза, пытается
улыбнуться, лепечет что-то эфемерное, типа «надо еще подумать»,
«перезвоню на следующей неделе» и испаряется, словно и не было.
Стою, соображаю. Пытаюсь классифицировать лицо.
Плотное, добротно-противное. Почему исчезло, словно очередной
«глюк»?
Достаю сигарету, прощальный взгляд на комнату...
моя дорогущая белоснежная лампа, все еще глядящая в пустое кресло,
цветет кровавыми маками,
чуть присохшими после операции по удалению кисты
– шестой зуб –
у симпатичной негритянки.
И я ее не уволил.
***
Работать долго и нудно. Погружаться в страдающие глотки всем телом
– длиннющие пальцы, нелепые часы, очки, хищные зубы, зябкие белые
ноги, пыльные туфли... и вот меня уже нет.
Я могу исчезать.
Я слесарь, починяющий нехитрый механизм,
священник, приносящий душам покой и радость,
спекулянт, взимающий дань за час собственной болтовни.
Я меняю маски,
двигаю стулья,
опускаю кулисы.
На авансцене смешной человек в голубых
– зад словно вымазан небесной краской –
клешеных джинсах.
Нестройный хор черных косичек, узкие глаза за туманом линз.
Закидывает ногу за ногу, грассирует и смеется
– пожелтевшая пломба на восьмом –
громко и вкусно. Раскаты мечутся по комнате, отскакивают от стен,
летят в распахнутость окон.
Звук бормашины приводит в чувство (сна, реальности – проклятый
вопрос).
Хитро щуриться, страдальчески морщит рот. Охает и ухмыляется кусочком
влажного рта.
Наташа поднимает лиловые ресницы к куцым бровям. Сиплый шепот,
блеск в глазах:
«Это же певец! Он эмигрировал из Узбекистана и получил здесь политическое
убежище как представитель сексменьшинств. Я его видела в «Парадизе»
– в юбочке, накрашенный... Он пародировал Пугачеву... Его моя
Юлька знает...»
Ну вот, день прожит не зря. Сколько полезной информации теряется
на
выходных ...
(там светлые стены,
темные тени,
странные женщины
и небо под ногами).
А сейчас говорим тихо. Есть коньяк и две конфеты. За окном темнеет,
а мои любопытные помощницы давно разъехались.
Я так плохо помню маму...мутные глаза, запах дыма...
Отец тогда часто забирал ее из наркологического. Мы с братом поначалу
встречали ее, прыгали от счастья...показывали игрушки...А потом
привыкли, что ее нет. Вроде, есть мама, а вроде...
Брат помогал отцу. Читал мне...
...а папа работал. Были какие-то важные, плотные люди. Говорили
о высокой чести, народном доверии, репутации члена партии...Папа
съеживался и ехал к маме. Возвращался больным и старым. А мы купались
в теплой ванне.
Пахло абрикосами.
...его не успели снять – мама умерла. Стало грустно и просто.
Папа женился на благополучной ясноглазой пышке (какой лагман готовила!),
а я уехал в Москву. Провожал брат. Помню его пухлые щеки. Крупная
такая слеза на подбородке...
...а отец не знал... я и не видел их больше...
Понеслись вокзалы, перроны, поезда... пел в вагонах, играл на
гитаре. Там
встретил Стаса. Красивый, моложавый... дал мне все: одел, накормил,
познакомил с нужными людьми...
...непривычно сначала, конечно...
Мы пели в клубах, ресторанах, я занимал первые места на вокальных
конкурсах, даже сняли пару клипов...так быстро все летело: записи,
концерты, круизы...У меня была такая сумашедшая желтая шляпа,
зеленые очки... Веселые были ребята, талантливые. Невероятные
какие-то приключения: ночью могли позвонить, сорваться куда-то...
А как я заводил публику в «Метелице»!...
Сюда что потянуло?...как-то рассыпалось все. Словно ветром размело.
Приглашать перестали, с голосом не заладилось... Брат писал, звал
домой...
...хотел съездить, да все как-то... Да, Стаса похоронили – с этого
все началось... ...сдавать он стал, все болел, пил много, потом
дрянь всякую... Ругались постоянно, я уходил. Он звонил, извинялся,
плакал... отвратительно. Его не стало, пусто вокруг – а тут такая
возможность... Мне помогли – везет на людей хороших! Знаешь, это
главное. Самое важное – люди вокруг тебя. Любовь к ним спасает
– надо любить...
Этого только не хватало. Такие истины да под коньяк ... дешевле
только рубль. Осталось собрать всех уродов под знамя милосердия
– и любить, любить...
У тебя, дружок, клиновидный дефект по всем нижним зубам гуляет,
прибавь мучительные брови с сухой морщиной, навязчиво шныряющей
между... – через четвертый десяток переступил своим остроносым
ботинком....
обманул время – герой...но ненадолго. Назойливая складка обрастет
подругами, живот оттеснит блестящий ремень, голос осипнет, оглохнет
– пачка Malboro в день –
и блеск покинет глаза.
На смену придет Обреченность.
Где же тогда будут эти Люди? Те самые, которых сейчас почему-то
Надо Любить?...
И ты знаешь все лучше меня. Ты уже все передумал и обыграл не
единожды.
Долгими ночами,
разбросав бронзовые лучи по простыне,
ты в испарине –
видишь вертлявого, лысого, нищего алкоголика-гомосека. Смущенно
улыбается вставной челюстью, хрипит старомодный мотивчик. Стреляет
сигареты, торгуется, есть вонючий хот-дог... один.
Всегда один.
И ты идешь в душ, принимаешь таблетку... а утром бежишь с плейером
по вздрагивающим векам города,
по кромке парковых ресниц.
Идешь к молодому массажисту, обкладываешь лицо толстым слоем огуречной
маски.
Ты все понимаешь.
Какого же черта эта Теория Вселенской Любви так занимает твое
цветастое воображение? Почему окончательно разлагает твои и без
того червивые от марихуаны мозги? Через какое, наконец, отверстие
вползает в душу эдакая нелепица?
Ну оглядись же вокруг!
Разве Это можно любить?...
Продолжение следует…
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

