Взрыв-пакет
(1) Я не буду делать вид, что задействованным в этом
обзоре фильмам предшествовал некий концепт. Ничего подобного:
ни одной предварительной мысли, никакой предвзятости. Выписал
в столбик десять новых российских картин и лишь потом задумался:
а что это, а о чем? Не в том, конечно, смысле, который сознательно
вкладывали авторы, а в том, который на деле предъявляет
себя неподкупному независимому наблюдателю.
«Чем сложнее образы, которыми способна оперировать ваша интуиция,
тем быстрее применение эстетических категорий перейдет от чувственно
воспринимаемых индивидуальных образов к образам социальным» (Г.Зиммель).
Мне хочется взять десять кинокартин и посмотреть, что говорят
конфигурации их сюжетов, их герои и поэтика – о стране, об общественном
организме, о времени.
Конечно, субъекты речи, авторы, делали что-то другое, свое. Они,
ежели прочитают, станут возражать, сопротивляться, капризничать
и даже орать благим матом! Зря. Как правило, фильм получается
много любопытнее, чем авторы мечтали. Однако, сами авторы не желают
видеть объективного смысла – лелеют субъективные грезы, фантазмы,
цепляются за частности. Вообще говоря, объективный
критик может спасти для истории искусств и даже для большой Истории
самую безнадежную залепуху. Ведь посредством кино предъявляют
себя коллективное бессознательное и социальное воображаемое. Критик
обязан оттирать недальновидных авторов от их творений, отбирать
у них авторские права на смысл. Наваял, наснимал, показал худсовету
– а теперь проваливай, не встревай.
Внимание: вот приходят важные Критик со Зрителем и рассаживаются
на лучшие кресла. Через время впускают скромного Продюсера – на
откидное место, в амфитеатр или даже на галерку. Автор и вовсе
в предбаннике, в фойе: помалкивает, дрожит. Сердобольная буфетчица
наливает ему минералки, чайку; кассирша предлагает сердечные капли
и валидол. Вот идеальная диспозиция, вот в каком направлении следует
развивать российскую киноиндустрию. Так и будет, поверьте.
И все-таки: помимо объективных критериев, спасающих для исследователя
любую картину, есть ведь еще и личные склонности
маленького теплокровного человека, меня. Есть проклятое нравится/не
нравится, работает неизбежное люблю/ненавижу.
В этом смысле из десяти отчетных картин одной я поставил бы безоговорочный
плюс, трем – жесткий минус, оставшимся шести – плюс/минус, оценку,
обозначающую смесь моего здорового любопытства с холодным равнодушием,
а иногда даже с легкой брезгливостью. Постараюсь, чтобы из текста
все эти пристрастия с антипатиями не вычитывались. Получится едва
ли.
(2) Симптоматично вот что: в отчетных картинах фактически
отсутствует сложноорганизованная городская среда. 90-е годы стр-рашно
ударили именно по Городу, по самой идее Города, как места, обеспечивающего
предельно интенсивный социальный обмен, места, индивидуализирующего
личность. Город – это разнообразие и это мобильность, в том числе
внутренняя, духовная. Город – это, извините, сложность
и тонкость. Однако, наши социальные связи были
безответственно, своекорыстно разорваны, посему восторжествовала
идеология Великой Степи: бери больше, скачи дальше – грабить и
вытаптывать очередное пастбище. Случайный пакет кинокартин блестяще
иллюстрирует эту новую социокультурную ситуацию. «Да, скифы мы,
да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами», – неслучайно протагонист
«Бедных родственников», мошенник и плут Эдуард в исполнении Константина
Хабенского, декламирует эти блоковские строки.
Постсоветская страна припомнила и канонизировала один-единственный
символ стабильности – образ доброго русского барина, самодовольного
успешного грамотея, живущего на лоне природы, в усадебке посреди
Степи, за прочным заборчиком; дающего работу окрестным плебеям,
в сущности крепостным, и великодушно просвещающего эту самую чернь.
Чудовищная редукция! Советский Союз тоже был простоват, но он
хотя бы ставил задачу развития, стремился к социальной
сложности, искал новые формы человеческого общежития, неловко
приворовывал у Запада идеи с архетипами, справедливо опознавая
автономную дореволюционную усадебку как затхлое место,
как островок стагнации и гибели, как раковую опухоль социального
организма, ту самую опухоль, которая закономерно обеспечила Российской
империи гибель.
 |
В этом смысле донельзя показателен фильм Ларисы Садиловой «Требуется
няня». Молодая успешная семья выстроила особнячок, отгородилась
от столь же успешных соседей и тем более от «народа» заборчиком,
а после наняла простонародную няню из урюпинска для воспитания
единственной малолетней дочери. Ларису Садилову рвет на части:
с одной стороны, она, как следует из интервью, помещенного в пресс-релизе
картины, сама недавно отстроилась и огородилась; но с другой,
Садилова часто ездит к себе на родину, в провинциальный Брянск
и поэтому хорошо понимает проблемы простонародной няньки.
«Когда вы посмотрите фильм, то поймете, что там показаны не «новые
русские». Там показан тот средний класс, который недавно стал
зарабатывать деньги и улучшать свою жизнь: выезжать за пределы
Москвы, строить дома (не замки на Николиной горе) и решать новые
проблемы. С этим столкнулась и я, купив дом. Это не значит, что
я – «новая русская». Мы купили дом, а на последние деньги строили
забор и т.п. И таких, как я, много. Это новый нарождающийся класс,
средний класс. Мне хотелось и о нем рассказать в фильме: люди,
которые еще вчера сами были обычными работающими людьми, сейчас
нанимают слуг, которые строят им дома, следят за детьми. Это ситуация
новая и вынужденная (одному дом не построить). И в моем фильме
оба родителя – работающие, это не люди, которые продают воздух
(отец занимается конкретным производством, а не банковскими операциями)».
И еще: «Москва – это государство в государстве, российской жизни
она ведь не отражает. Сама я родилась в Брянске, часто там бываю,
там живут мои друзья... Перестройка, то, что произошло в Москве,
шикарные бары, светская жизнь – все это практически не касается
людей в провинции, которые как прежде жили, так и теперь живут...
Жизнь, происходящая в Москве, наша тусовка – все это в принципе
не волнует. Что интересного в казино, бандитах и проститутках?
Большинство наших сограждан – нормальные люди, не имеющие отношения
ко всему тому, что я только что перечислила».
Я позволил себе столь обширные цитаты потому, что стиль мышления
Садиловой, ее манера рационализировать современный российский
хаос – показательны, симптоматичны. Садилова не может выбрать
протагониста, ибо ее собственное социальное тело размыто, разорвано
между «средним классом», как она его понимает, и «нормальными
людьми», из гущи которых талантливая кинематографистка и прорвалась
в истеблишмент. Садиловой хочется усидеть на двух стульях, и вот
она делит правду жизни между нянькой Галькой; между помещиком,
то бишь капиталистом, Андрюхой, неосторожно взявшим няньку на
работу; между ангелоподобным среднеазиатом Шером, наемным строителем
у капиталиста; и постсоветской девочкой Алькой, дочерью капиталиста,
которая, по мнению расейских либералов, обеспечит вместе со сверстниками
светлое будущее своей стране (а по-моему, не обеспечит, нет).
Садилова пытается скрестить жанр западного образца с социалкой
отечественного происхождения и терпит феерическое поражение. Жанр
требует жесткой расстановки акцентов, морально-этической определенности,
но отечественные хозяева дискурса к определенности не готовы.
Они не владеют ситуацией и вместо жизнеутверждающего жанра получается
паника.
«Ты хоть знаешь, что такое тридцать тысяч долларов?!» – теряя
от возмущения дар речи, тестирует забеременевшую от андрюхиного
папаши няньку капиталист. «Знаю», – не моргнув глазом, отвечает
закомплексованная урюпинская учительница биологии и младших классов,
пустившаяся во все тяжкие, отважившаяся на шантаж. Ложь. Провальная,
нехудожественная ложь. А вот хорошо бы нянька честно ответила:
«Не знаю...» Неожиданно растерялась бы, потупила бы взор, испугавшись
и денег, и открывающихся социальных перспектив! Но автор слишком
влипает в сюжет, слишком часто идентифицируется то с одним героем,
то с другим. Надо же понимать: это сама Садилова «знает», что
такое тридцать тысяч долларов! Знает – и не может не похвастаться.
Короче, надо бы держать дистанцию. Надо бы мыслить точнее. Надо,
но не получается.
Любопытны искренние, прочувствованные наезды Садиловой на Город,
в данном случае на Москву. А ведь если у нас все еще сохранилось
некое подобие Города, то это единственно проклинаемая
многими территория внутри Садового Кольца! Ну, может еще немного
Питера. Все прочее – межеумочный поселок, выселки, степь. Пафос
Садиловой понятен, но выводы ее наивны и неприемлемы. «Бары, светская
жизнь, бандиты с проститутками» сознательно выводятся за пределы
авторского и зрительского интереса. Предполагается, что поместье
и сопутствующие ему «родные просторы» по определению лучше городского
разврата. Что примитивная схема «талантливый наниматель – добросовестный
наемный рабочий» и есть оптимальная форма социальной организации.
Что главное – «честность», и что все должны типа «стараться»,
«совершенствоваться». Вот и будет им счастье! И нам. И вам. И
на Марсе будут яблони цвести.
Не надо говорить плохие слова, не надо держать за пазухой дурных
мыслей, как умеет это светлоокий, всецело положительный Шер. Не
стоит крутить романы на стороне, что, судя по всему, тайком от
жены практикует трудолюбивый капиталист Андрюха, который, получается
у Садиловой, сам виноват и «сам дурак». Не годится обижаться на
«слониху» и на прочие оскорбительные выпады хозяев в свой адрес,
подобно неуравновешенной, мстительной урюпинской няньке Гальке...
Однако, подобный стиль мышления – это какие-то руссоизм с утопизмом,
в конечном счете, неправда, спровоцированная подмененным, неподлинным,
фантомным сознанием.
И все-таки попытка Садиловой – честная. Неудача Садиловой – героическая,
не меньше. «Требуется няня» – одна из самых важных картин постперестроечного
периода, наши социально-психологические расклады здесь как на
ладони. Стиль мышления «новых грамотных», вознамерившихся воскресить
архетип «добрый русский барин», предъявлен с пугающей откровенностью.
За откровенность спасибо, хотя ровно такое мы, независимые наблюдатели,
и предполагали. Голова-то работает, а как же! Теперь вот подключились
еще и глаза, и уши, предоставили необходимый эмпирический материал.
Итак, воображаемое тех, кому доверена публичная речь, ни к черту:
все на нервах. Лучше бы отдали девочку в детский сад.
(3) Фильм Александра Сокурова «Солнце» – как будто
о чужом далеком прошлом, о Японии 1945 года, о Божественной природе
Императора. А мы возьмем, и не поверим очевидному, станем исходить
из того, что всякий экзотический фантазм на деле носит личностный
характер, что фантазм – проекция близкого, что он это близкое
отчуждает, предъявляет в метафорическом ключе. Гиперболизирует.
Забудьте про Императора. Ну при чем тут Япония?! Никакой Японии
нет.
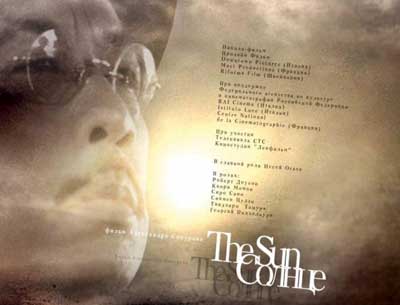 |
Итак, трепетный, равный богам Император Хирохито противопоставлен
оккупационному генералу Мак-Артуру и вульгарной американской солдатне
с журналистами. В сущности, Хирохито – это возведенный в степень
русский помещик. Не Обломов, не Манилов, нет, но что-то близкое,
что-то такое. Усадебка, уединенность, боготворящие хозяина слуги,
научные изыскания, ритуальное поведение – конечно, это он, узнаю!
Я учился у Юрия Николаевича Арабова, и я помню, как любит он всех
этих гоголей, как склонен к перевертышам, к сильной символизации.
Сразу опознав в экранном Хирохито русского помещика, я лишь по
окончании сеанса вспомнил про арабовскую склонность к гротеску,
догадался, откуда растут уши. Сокуров как всегда с гротесками
борется, но на этот раз проигрывает. В случае великолепного «Тельца»
у Сокурова была многообразная отечественная фактура: материальная
и биографическая. Сокуров умеет рассматривать фактуры, перебирать,
коллекционировать, поэтому в «Тельце» ему удалось арабовские гротески
уравновесить, нейтрализовать. Здесь – не удалось. Получился медленный,
вязкий фильм о провинциальной рутине, о самодуре-помещике и о
новых варварах, американцах. «Вишневый сад»? Отчасти да, но без
чеховского блеска, без чеховской амбивалентности, наконец, без
чеховской фразы.
Помню, под занавес перестройки Сокуров сказал в одном из интервью:
Россия должна быть заповедником. В смысле, садом: местом не битв,
но умозрений и духовных поисков. Вот что такое «Солнце»! На вышеуказанную
метафору работают и изображение, и темпоритм. Американцы тут –
хитрецы, циники, нувориши. В конечном счете, простаки. Горожа-ане.
Я не согласен с такою расстановкой сил и с такой интерпретацией.
Напротив, помещик архаичен, а горожанин, мягко говоря, непрост.
Американская культура не менее изысканна, чем культура японская.
Да и в Японии, я думаю, аутентичная городская культура процветает.
Достаточно посмотреть фильмы Ясудзиро Одзу – непревзойденного
Поэта сложноустроенной городской жизни. В чем-то существенном
Одзу похож на другого Поэта Города, американца Олтмена. Я уважаю
приверженность Александра Сокурова ценностям русского усадебного
быта, но не разделяю ее. Думаю, в сегодняшней России нельзя идеализировать
медленного помещика. Хорошо, однако, то, что
в финале картины помещик этот перестает быть божеством. Мне, как
человеку западной культуры, симпатична такого рода гибель богов.
Вот и наглые американские репортеры, атаковавшие Хирохито посредством
фотообъективов, симпатичны тоже. Наконец, генерал Мак-Артур, тихонько
подглядывающий за возбужденным, за танцующим Хирохито из-за приоткрытой
двери, – это ведь настоящий герой Голливуда, вуайерист. Просто
зайчик! Мечта, идеал честного жанровика.
В данном случае мои ценности и пристрастия не совпадают с авторскими.
Я, поэтому, параллельно воображал другое кино, с голливудскими
акцентами и в пользу «американцев». То бишь, извините, горожан.
Никакой Америки тоже ведь нет. Все наши фильмы о России. Этим
они и интересны, поэтому задевают за живое.
(4) Опять предлагаю считывать с экрана не сюжетику,
а куда более значимые, «говорящие» категории: манеру авторской
«жестикуляции», способ авторского дыхания. Ведь социальное тело
автора, его, если угодно, классовые установки, его групповые обязательства
– с неизбежностью превращаются на экране в темпоритм, в плотность
организации материала и т.д. Пора уже разбираться вот с этими
превращенными формами коллективного бессознательного.
 |
Симптоматичны две новые экранизации Бориса Акунина: «Турецкий
гамбит» и «Статский советник». Впрочем, и первая, выполненная
в телевизионном формате экранизация «Азазеля» тоже заслуживает
упоминания. Там режиссировал Александр Адабашьян, человек «старой
школы», сделавший в компании Никиты Михалкова несколько значимых
картин о русcкой усадьбе. Ровно в том же усадебно-помещичьем ключе
Адабашьян решил и комикс-роман Акунина: вязкое, медленное зрелище
с потугами на отсутствующий в первоисточнике психологизм, смертная
тоска, методологическая ошибка, роковая неточность.
 |
Новым постановщикам предписали поэтому переориентироваться с вязкости
на бешенство. Обе картины безукоризненно похожи
друг на друга своим механическим ритмом! Акунин-беллетрист, равно
как и любой голливудский режиссер-профессионал, умеет обеспечить
своему детищу, своему произведению живое дыхание: паузы – бойкие
места – энергетические сгустки – снова паузы – побочные линии
– и т.д. Однако, в отчетных картинах не было проделано никакой
работы по смыслообразованию: все события, все персонажи, каждая
секунда экранного времени здесь одинаково значимы. Форменный кошмар!
Квинтэссенция дурно понятого постмодернистского метода, свалка.
Нам предложен мир, в котором нет никакой иерархии
и где все равно всему. Нет ни одного смыслового акцента! Вопиющая
беспомощность, элементарный непрофессионализм, чреватый этической
невменяемостью.
Впрочем, скорее все наоборот: именно первоначальная невменяемость
хозяев дискурса, вознамерившихся перешустрить
западных жанровиков, и только, породила эти считалки, эти бубнилки.
Наши не понимают, что западные жанровые клише – есть продукт громадной,
реальной работы всего социума, и не в последнюю
очередь кинематографистов, с общеупотребимыми смысловыми категориями,
а не с одними лишь финансовыми потоками. Запад шифрует этими клише
свои сложные социальные отношения. Поэтому западные жанровые фильмы
– живые, а значит, умные. Наши бубнилки – нет.
Акунина жалко. Я перечитал «Статского советника»: превосходная
книга, мы полюбили писателя за дело! Однако, сценарий перенасыщен
сюжетными линиями и героями. В книге они уместны, в фильме – избыточны
и вредны. Зачем Акунину столь сомнительная реклама? Все, кто хотел,
его давно прочитали. А неофиты, приобщившиеся к мифологии Фандорина
на стадии кинопроекта, вряд ли оценят прелести первоисточника:
из фильмов очень трудно понять, что происходит на элементарном
событийном уровне.
 |
(5) Есть нечто механическое и в картине Алексея Учителя
«Космос как предчувствие». Драматург Александр Миндадзе, которого
я ценю крайне высоко, впервые предложил для постановки ретро-материал,
впервые изменил «современности», а отчасти даже «повседневности».
В сущности, это фильм про то, как советский человек ищет некую
суррогатную религию, как из подножного сора конструирует для одинокого
себя некое духовное измерение. Результатом подобного томления
духа становится обретение нового языческого бога – Юрия Гагарина,
первого в мире космонавта. В этом смысле показательны и значимы
финальные кадры: пока справа идут титры, слева неловко машет руками
человек в военной форме, в шинельке, в фуражке с кокардой. Похоже,
Гагарин на трибуне, трибуна же – своего рода алтарь новой сомнительной
религии, культивирующей безосновательную человеческую гордыню.
Где она, его знаменитая, его пресловутая улыбочка? Ее, кстати,
нет. Есть не улыбка, а некая неопределенная гримаска – выражение
легкого испуга; есть плохо скоординированные движения конечностями,
нечто вроде приветствий в сторону язычников-неофитов. Страшновато!
Я опознаю в «Гагарине», в его вызывающе броском, но по существу
абсолютно бессмысленном полете, ту высшую точку
кичливого советского маразма, которым страна в результате и подавилась,
от которого не могут оправиться ее, страны, постсоветские наследники,
включая Россию.
12-го апреля и после, когда советские, да и антисоветские люди
прыгали до небес, ликовали, строили планы, короче, полным ходом
гордились, задумывался ли кто-нибудь из них о
том, что восторг этот не обеспечен никаким реальным смыслом? Что
полет не решает ни единой реальной проблемы страны и населения,
зато мистифицирует власть предержащих, обывателей, даже диссидентов?!
Устойчивость социума обеспечивается единственно структурной сложностью
и разнообразием социальных отношений. Напротив, в случае СССР
все силы были брошены на унификацию, на упрощение, на сведение
сил в одну точку, в единый ударный кулак. В качестве направления
главного удара не случайно выбрали космос. Горделиво задрали головы
и поклонились будто бы простому парню с вечно развязанным шнурком,
а на деле – свежеиспеченному символу, заквашенному
на древних языческих культах божеству. Да, ошеломленный показушной
акцией Запад на время растерялся, однако, не рухнул, нет. Сложноустроенный,
органичный Запад моментально перестроился и от всей своей загадочной
западной души врезал по обществу спеси, аврала, показухи
– уравновешенностью, стабильностью, ответственностью. Результат
налицо.
Как бы ни относился к «Гагарину» лично Александр Миндадзе (из
фильма Алексея Учителя отношение сценариста к печально известному
в мире социокультурному феномену не вполне понятно), ему, как
честному и без малого гениальному драматургу, удалось художественно
оформить все то, что я пытался обозначить выше. Протагонист у
Миндадзе расщеплен надвое: одна – продвинутая – половина уповает
на западное общество потребления, точнее, на единственно доступную
сознанию совка упрощенную версию этого общества; вторая – та,
что попроще – в конце концов довольствуется «космонавтом», божком,
поклонами и молитвами. Первый, Герман, уплывает в сторону американского
теплохода, второй, Конек, остается в СССР. Герман молится золотому
тельцу, Конек – «Гагарину». Первый прагматичнее, второй – типа
«идеалист». Но в сущности, их порыв одинаково безнадежен: оба
ищут простого решения вовне себя, за пределами социума, за пределами
мира живых. Таков послевоенный советский
человек, сделавший ставку на махровое язычество и закономерно
проигравший все, что только можно. Запад же, который у нас принято
попрекать бездуховностью, в основном верен своим тысячелетним
идеалам: смотри любую жанровую голливудскую поделку!
Теперь режиссура. Режиссер обязан интерпретировать. Но Алексей
Учитель старательно идет в фарватере Миндадзе, культивируя чистописание.
Он умещает картину всего в полтора часа, потому что ограничивается
остроумным аскетизмом, перенося на экран жесткую
и точную драматургическую конструкцию Миндадзе – один в один,
словно игнорируя поднадоевшие повествовательные клише, ограничиваясь
намеками, знаками, маркерами. Положим, принято расширять внутрикадровое
пространство за счет использования «восьмерок», разного рода «случайных
взглядов», за счет необязательных, внефабульных деталей, достраивающих
атмосферу. Режиссеру всегда приятно поработать с фактурами, «пощупать»
вещи, лишний раз заглядеться на человеческое лицо. В этом смысле
явно перестарался Александр Прошкин, изрядно забытовивший
свою картину «Трое», основанную на другом, но столь же формализованном
сценарии Миндадзе. Стремясь сохранить для зрителя упругую ясность
драматургии, Алексей Учитель берет на вооружение принцип
экономии: один план лица там, где в подобных случаях
принята многократная восьмерка; неожиданный обрыв эпизода там,
где традиционно бывает избыточный «хвостик». Короче, эдакий последовательный
анти-Антониони!
Повторюсь, это остроумный, очень остроумный ход,
но еще не решение, почувствуйте разницу! Учитель
занимается тавтологией, повторяя за драматургом: «Аз, буки, веди;
мама мыла раму; Герман, Конек, сестрички, шнурки, Гагарин». А
дальше? Дальше-то что?! Что все это значит? Кто будет раскачивать
драматургию, кто будет создавать напряжение между содержанием
и формой? Только не режиссер. Формализм Учителя – и есть его содержательный
посыл. Актеры сдержанны, их игра утоплена в быт. Оператор Юрий
Клименко, как всегда, безупречен: поэтический реализм, картинка-картиночка,
не отнимешь. Но и не прибавишь. Приходится довольствоваться первоисточником
– безукоризненным конструктом драматурга. Его в конечном счете
и считываешь, именно из него, что называется, делаешь выводы.
Мои выводы – смотри выше. Ваши наверняка будут отличаться. Так
это потому, что мы с вами оцениваем пусть великолепный, но все-таки
полуфабрикат – сценарий. Фильм же должен быть куда определеннее,
ведь он состоит не из слов, а из конкретных авторских жестов,
таких, как люди, лица, тела, фактуры, темпоритмы.
«Хороший ли фильм «Космос как предчувствие»?» – спросил меня приятель.
Я задумался: «Не понял. Не знаю. Не смотрел». Приятель решил,
что я высокомерно издеваюсь и больше со мной не разговаривает.
(Продолжение следует)
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

