По поводу «Прогулок с Пушкиным» Абрама Терца
Републикация к 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина.
Вот ведь как забавна наша интеллигенция – при том, что она «до слез» серьезна, до «полного втемяшивания» поучительна, но не замечает, как ей «идет», как выражает ее «причинную суть» классическое определение: «Эй, ты там – в очках и шляпе!». Невозможно, наверное, найти «слово» ёмче и короче, которым была бы обозначена «форма», в которую заключена пустота рассуждений на гуманитарные темы. Но есть, есть еще «темы», которые «видит око», да «очкастый клык» неймет – и, развеиваясь, полетела-то тогда в пустоту «золоченая россыпь слов» в извечном болтливом императиве «заполОнить бесконечность вселенной». А вот, кстати, и Пушкин – «в исполнении» Абрама Терца, которым как наша «академическая», так и «околонаучная» элита в связи с ее застолбленными критериями «золотого века поэзии» осталась крайне недовольна. И что характерно – как сказано в стандартной цитате на тему – «нападки на книгу в русской эмигрантской прессе не уступали тому, что советская пресса писала о Синявском-Терце во время судебного процесса. «Прогулки хама с Пушкиным» назвал свою статью известный литератор "первой волны" Р.Гуль. Уважаемые русские писатели, подобно авторам из "Правды" и "Известий", обвиняли Синявского в том, что он ненавидит "все русское" и потому намеренно уничижает величайшую гордость русского народа – Пушкина. "Почему советский суд и антисоветский эмигрантский суд совпали (дословно совпали) в обвинениях мне, русскому диссиденту?" – спрашивает Синявский в статье «Диссидентство как личный опыт». И сам же отвечает: "Кому нужна свобода? Свобода – это опасность. Свобода – это безответственность перед авторитарным коллективом. Бойтесь свободы!"»
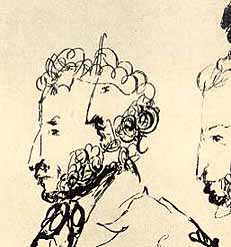
Но свобода, с которой Синявский «обращается с Пушкиным», – это НАША свобода, это полная свобода – которую каждый из нас может позволить себе лишь в среде самых близких – тех же детей или (= и) родителей, где вас знают как облупленного – со всей «подноготной» и где лукавить, пыжиться или «понтить» не имеет никакого смысла. И потому некоторая ёрничатость Синявского вряд ли должна сильно уж смущать – потому что «ТО, что Пушкин» – живо, «непроизвольно-физически» ощутимо и неугасаемо «булькает» в обыденной среде, в бытовом разговоре, как опорная точка «коммуникаций»: «– Кто заплатит? – Пушкин! //– Что я вам – Пушкин – за всё отвечать? //– Пушкиншулер! Пушкинзон!»
Cравните далее у Синявского:
С именем Пушкина, и этим он – всем на удивление – нов, свеж, современен и интересен, всегда связано чувство физического присутствия, непосредственной близости, каковое он производит под маркой доброго знакомого, нашего с вами круга и сорта, всем доступного, с каждым встречавшегося, еще вчера здесь рассыпавшего свой мелкий бисер.
Вот и кому, спрашивается, из отечественных фигур «предоставлена» такая ЧЕСТЬ «актуального присутствия» здесь и сейчас в противовес, скажем, «Чапаеву» или «Штирлицу» – персонажам, фигурирующим в народе в основном в гротескном плане. Пушкин же значим именно как Пушкин – со всем своим реальным историческим временем, творчеством и судьбой. Он – несдвигаемая глыба, Поэт – «без имени». Последнее – критерий всех оценок, отсюда собственное имя обрело нарицательность, а с ней – и свободу обращения, как с любым родным словом. Лермонтову или Тургеневу, да хотя бы и Льву Толстому, при всей высоте их гения, не дано достичь «уровня пушкина» – потому что их имена привязаны к их обладателям, потому что требуют конкретики аллюзий и ассоциаций с их произведениями.
«До Пушкина» – это «древняя Русь», «с Пушкина» – исконная самобытность русских окончательно идентифицируется с «артефактом» Прогресса Культуры, причем почему-то именно через ее пресловутую «периферийность» и выдувается в сквозняк предсказательная сила всех цивилизованно-благообразных концепций истории. Маргинальность России – это не только «гравитата инертности», обусловливающая «хроническую отсталость», но еще и эффект преломления сред, где «луч логических истин», искажаясь, вдруг теряет отчетливость и остроту и рассеивается нафиг где-то там, «в необъятных просторах Евразии». Естественная отстраненность русских, от центра флуктуаций общеевропейской мысли – это еще и отстраненность от абсолютизма вымученных там «логических истин»: не истиной – но диким, еще стайно-гоминоидным стремлением к истине характеризуется «русская правда» – искони подозрительная к «нашествию авторитетов» и неуспокоенная никакими «одежками рефлексии». Вгрызться в суть – вот вектор местного отношения к «плодам цивилизации», при том, что ни один гуманитарный постулат априори не выдерживает проверку как опытом, так и временем, что, собственно, окончательно и зафиксировал Ницше. И эта отечественная аура смогла, наконец, дождаться Своего Гения – причем, несусветно исключительного по мощи, а еще – в чем русским безусловно и несказанно повезло – и поэтического по дару. Т.е., попросту говоря, феномен Пушкина в том, что он для русских – ИСТИНА, и все, что ассоциируется с «истиной» изначально – это Пушкин: только с этой «заданной им планки» задействуется мерило всего русского творчества – вдруг «одним прыжком» в истории вынесенное на гребень общечеловеческого гуманитарного поиска и просто вынужденное теперь «жить гениями». Так ведь и коснулся же он ВСЕГО – практически на каждой странице нашей ментальности проставил свою печать:
Все темы ему были доступны, как женщины, и, перебегая по ним, он застолбил проезды для русской словесности на столетия вперед. Куда ни сунемся – всюду Пушкин, что объясняется не столько воздействием его гения на другие таланты, сколько отсутствием в мире мотивов, им ранее не затронутых. Просто Пушкин за всех успел обо всем написать.
Пушкин, помимо того, что был первым нового витка отечественной ментальности и тем самым навсегда оставшийся непревзойденным образцом (как Гомер для античности, как Данте для итальянцев, как Шекспир для англичан, как Сервантес для испанцев, как Рабле для французов, как Гете для немцев), – растворен в любом русском, растаскан по персональным «тезаурусам», и потому его «озвученное слово» – это всегда и обналиченная частичка каждого «личного Я», высвечивающая индивидуальный контекст на фоне Общего. Именно поэтому ТОЛЬКО РУССКИЙ и имеет право на собственного Пушкина как на искони «национальную собственность» – при том, что из уст иностранца подобное же обращение с его именем как минимум претит. И именно поэтому – с подтекстом пушкинского идеала – на вид совершенно идиотский пассаж Гоголя вошел в анналы перлов отечественного юмора:
«Бывало, часто говорю ему: «Ну, что, брат Пушкин?» – «Да так, брат», отвечает бывало: «так как-то всё...» Большой оригинал».
Только представить себе, как «ржал и бился» сам Пушкин над этим своим портретом большого оригинала при первом чтении автором пьесы «Ревизор» на «субботе» Жуковского в январе 1836 г!...
Вообще, Пушкин для русских (= «русскоязычных») настолько родной, настолько наше всё, что мы как бы не замечаем его – мы просто его пользуем: как то, что нам как бы уже безвозмездно дано – как жизнь, как просторы Родины, как язык, как российский менталитет, как родные и близкие, как исконная традиция и культура. При этом далеко не факт, что многие в него вникают, разбираются в его заслугах, чувствуют высоту гармонии его шедевров – но ОН всегда как бы «про запас» и вот об этом знают все. Т.е., Пушкин всегда открыт, доступен – лишь бы достало желания войти в распахнутые двери. И вот закономерность: чем больше «объемлешься поэтом» – тем выше ИМ восхищение и всегда непосредственно, и никогда наоборот, и дальше – больше, больше…, при том, что живой Пушкин никогда не озабочивался стать иконостасом. Просто заданный им стандарт качества его жизни пронизан столь высоким Идеалом, что кажется и превзойти его нельзя – хоть бы каким боком «к нему прикоснуться»! Поэт и поэзия слились в нём в вершинной иерархии «структуры личности», и в видах этой «конечной точки» все мелочи жизни оказываются не более чем муравьиными хлопотами у подножия холма.
Поэтому-то образ поэта у Синявского отнюдь не карикатура, шарж, анекдот: две ипостаси Пушкина – творческая и житейская – далеко не равнозначны «по звучанию», хотя и нарочито сопоставимы «по объему». Главное – гениальность поэта никоим образом не ставится под сомнение:
При всей любви к Пушкину, граничащей с поклонением, нам как-то затруднительно выразить, в чем его гениальность и почему именно ему, Пушкину, принадлежит пальма первенства в русской литературе.
Причастен ли этот лубочный, площадной образ к тому прекрасному подлиннику, который-то мы и доискиваемся и стремимся узнать покороче…
А Дельвиг? Раевские? Бенкендорф? Стоит произнести их приятные имена, как, независимо от наших желаний, рядом загорается Пушкин и гасит и согревает всех своим соседством. Не одна гениальность – личность, живая физиономия Пушкина тому виною, пришедшая в мир с неофициальным визитом и впустившая за собою в историю пол-России, вместе с царем, министрами, декабристами, балеринами, генералами – в качестве приближенных своей, ничем не выделяющейся, кроме лица, персоны.
А подчеркивание жизненного подвига Пушкина – отдавшего себя на заклание ради «поэтического слова», никаких «дивидендов», кроме подлинности наполнения чувства собственного достоинства, не сулящее:
Это был вызов обществу – отказ от должности, от деятельности ради поэзии. Это было дезертирство, предательство. Еще Ломоносов настаивал: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» А Пушкин, наплевав на тогдашние гражданские права и обязанности, ушел в поэты, как уходят в босяки.
Какого большего благодушия к Поэту нужно, кроме прямо высказанной Синявским «любви…, граничащей с поклонением», образа «прекрасного подлинника» – «доискиваемого» автором, оценки той эпохи как сугубо «персонально-пушкинской» со свитой-шлейфом из «царей, министров, декабристов» и проч.? Эпатирующая тенденциозность текста только тогда не вызывает отторжения, когда содержит подтекст и именно такой по массе – как у скрытой под водой части айсберга, т.е. начисто перевешивающий видимое на поверхности. И имеющий глаза – да видит:
В письме французскому переводчику Синявский напишет: «Скажу прямо: Пушкин там (в „Прогулках“) предстает в довольно-таки странном – фантастическом и перевернутом – виде. Это более проза, нежели литературоведение». (Луи Мартинез. PromenadesavecSiniavski. Прогулки с Синявским. Неизвестные письма А. Д. Синявского. Октябрь. 2005. № 11)
Вот именно – «проза»! Которая всегда – с «двойным дном». Т.е., в отличие от литературоведческого исследования, предполагающего скрупулезную расстановку «всех точек над i», мы имеем дело с «псевдо-Синявским» – Абрамом Терцем, хотя и не позволявшем себе «передергивать факты» – но «под псевдонимом» дававшем волю своей фантазии.
Безупречный пушкинский вкус избрал негра в соавторы, угадав, что черная, обезьянообразная харя пойдет ему лучше ангельского личика Ленского, что она-то и есть его подлинное лицо, которым можно гордиться и которое красит его так же, как хромота – Байрона, безобразие – Сократа, пуще всех Рафаэлей. И потом, чорт побери, в этой морде бездна иронии!..
О как уцепился Пушкин за свою негритянскую внешность и свое африканское прошлое, полюбившееся ему, пожалуй, сильнее, чем прошлое дворянское. Ибо, помимо родства по крови, тут было родство по духу. По фантазии. Дворян-то много, а негр – один. Среди всего необъятного бледного человечества один-единственный, яркий, как уголь, поэт. Отелло. Поэтический негатив человека. Курсив. Графит. Особенный, ни на кого не похожий. Такому и Демон не требуется. Сам – негр.
Да образ – на первый взгляд эпатажный, безобразный: «черная, обезьяноподобная харя», «морда», «негатив человека», «графит», «сам – негр». Но сколько любования этим «подлинным лицом», сколько уважения к «безупречному пушкинскому вкусу», сколько восхищения этой «мордой», в которой «бездна иронии»! Вот где «внутреннее содержание» – явно и многократно перевешивающее «внешнюю форму»: «Среди всего необъятного бледного человечества один-единственный, яркий, как уголь, поэт… Особенный, ни на кого не похожий. Такому и Демон не требуется. Сам – негр.» Это ж надо – какой высоты метафора: «Такому и Демон не требуется. Сам – негр»!! Да тут столько нулей при палочке!... – небось, и пятнадцати разрядов на калькуляторе не хватит подсчитать…
Единственное же чем грешит Синявский-Терц – это ассоциативными рядами: из современников никому бы и в голову не пришло хоть каким-то образом принижать личность Пушкина – его могли не любить, ненавидеть, завидовать, исподтишка травить, но чтобы с малейшими намеками о ничтожности в лицо – это было чревато… Я уже многократно приводил свою формулу (на форуме сайта «Антропология», ник «zadoj»): Мы не умнее наших предшественников – мы богаче их ассоциациями, не знаниями – а расширением общечеловеческого ассоциативного поля на самом деле характеризуется «прогресс», где «новое знание» – лишь логические кляксы в общей связности картины Мироздания. Поэтому-то «наше всё» – оставаясь сердцевиной флуктуаций словесности, разумеется, теперь – далеко «не всё»: наш взгляд на мир – и пристальней, и глубже, и шире, но и разветвленнее в заблуждениях, изощреннее в трактовках, извращеннее в доказательствах. И Абрам Терц ничуть не виноват в том, что приобщен к этому «опыту человечества», – он просто дитя своего времени: но весь свой богатейший ассоциативный арсенал и скрупулезнейшее знание творческого наследия Поэта он подчиняет «научной методологии», так сказать – отдает на заклание Логике.
Доминанта «логики» в головах давно уже не соотносится с некой одной общепризнанной Истиной, но способна постулировать множественность «точек отсчета», из которых убедительнейшим образом выводятся в своем разнообразии и антагонизме и свои окончательные истины (ср. у Ницше в «примечании для ослов»: «Но то, что убеждает, тем самым еще не становится истинным: оно только убедительно»). По аналогии с фасеточным зрением, т. наз. логическое мышление можно назвать «фасеточным мышлением» – для которого каждый раз и заново актуально лишь «одно прямое изображение предмета» (в отрыве «от остальных» предметов или выделенных в качестве объекта кусков Целого), от которого «луч мысли» отражается строго под прямым углом и только поэтому может быть воспринят и «отрефлексирован» (Ср.: Каждая фасетка воспринимает лишь те лучи, которые падают перпендикулярно ее поверхности.). Отсюда – и мозаичное виденье мира, общая картина которого складывается из множества мелких частичных изображений, приложенных друг к другу и слепленных слюнями логики. И хотя тем самым сознание получает большую детализацию как составных частей так и связностей в рамках отдельной предметности, но общая перспектива и целостность Мира для него тают за пределами разрешающей способности («Насекомое может видеть на расстоянии максимум около 50 см. и только оттенки»). Не имея иной методологии, кроме логической, Синявский заражается идеей раскрыть формулу Пушкина – на Самом Пушкине, т.е. доказать обратнопропорциональность взаимосвязи поэзии и суетности жизни. При том, что высота поэзии Пушкина настолько для него запредельна, что бытовой конец этой пропорции по математической закономерности с неизбежностью сводится к самому пределу ничтожности:
И меж детей ничтожных мира, Быть может, всех, ничтожней он.
И – начинается «мозговой штурм»:
Нет, господа, у Пушкина здесь совершенно иная – не наша – логика. Потому Поэт и ничтожен в человеческом отношении, что в поэтическом он гений. Не был бы гением – не был бы и всех ничтожней. Ничтожество, мелкость в житейском разрезе есть атрибут гения. Вуалировать эту трактовку извинительными или обличительными интонациями (разница не велика), подтягивающими человека к Поэту, значит нарушать волю Пушкина в кардинальном вопросе. Ибо не придирками совести, не самоумалением и не самооправданием, а неслыханной гордыней дышит стихотворение, написанное не с вершка человека, с которого мы судим о нем, но с вершин Поэзии. Такая гордыня и не снилась лермонтовскому Демону, который, при всей костюмерии, все-таки человек, тогда как пушкинский Поэт и не человек вовсе, а нечто настолько дикое и необъяснимое, что людям с ним делать нечего, и они, вместе с его пустой оболочкой, копошатся в низине, как муравьи, взглянув на которых, поймешь и степень разрыва и ту высоту, куда поднялся Поэт, утерявший человеческий облик.
Какая буйная экспрессия, какие ряды антитез, какие эмоциональные искры от скрещивания лезвий полярных понятий, какие крайности выводов из взаимоисключающих представлений! Вот она – наша ассоциация, вот он наш развращенный ум! Да только «антагонистическая яма» – это рефлекторная яма-провал самого Синявского: это для него она расширилась в непроходимую пропасть за полторы сотни лет, тогда как у Пушкина этого обрыва еще в помине нет и некоторую связность между Поэтом, утерявшим человеческий облик в «неслыханной гордыне», и оным же в «ничтожно-приземленной ипостаси» мы все же еще способны узреть – и не где-нибудь в «россыпи черновых листов», а в той же самой законченной поэтической форме, где между крайностями у Пушкина всегда есть переход – предполагающий Единство художественного образа, а с ним – и его вещность, скульптурную осязаемость:
Молчит его святая лира; Душа вкушает хладный сон…
Для Пушкина целое не подлежит разъятию – его стереоскопическое зрение видит всю форму, а с нею – и ее смысл. Научная же методология должна обязательно рассмотреть объект под микроскопом, а еще лучше разломить Целое на куски – с тем, чтобы попытаться уловить, связывавшую их в Единое, закономерность. Но гуманитарные понятия не камни на дороге, о которые можно споткнуться или разбить большой палец, – они не обозначают ничего существующего «предметно», в реальной отдельности, без «субъективности» человека, и потому их «разъятие на части» – в отличие от упёртости естествознания – априори никакой «новой связи» не выявляет и активность гуманитарии в этом смысле – это что-то из репертуара «плясок святого Витта», да еще и со скальпелем в руках – с явным «упасибожным» намерением посечь воздух на куски. Т.е., наукообразность гуманитарных отраслей – это не достижение современной строгой мысли, это ее ПОРОК, и как бы не противостоял автор «Прогулок» – академии, его дифференцирующее мышление все того же поля ягода. Расчленив поэта на «гения» и «собственно человека», он вынужден оживлять части автономными ассоциативными рядами, но в итоге создавая лишь иллюзию объективности – и именно потому, что к его времени человечество как раз создало колоссальный запас ассоциативной прочности. Одно то, что Синявский ухитрился запихнуть в Пушкина лермонтовского Демона – о котором тот по известным причинам и понятия не имел – уже некоторым образом снижает историчность авторских оценок. А что такое «в небе открылась брешь и между ней и землею ходят токи воздуха»: ведома ли была «тогдашним миропредставлениям» ГРАНИЦА между «атмосферой» и «вакуумом»? «Черная раса, как говорят знатоки, древнее белой…»: «знатоки» это кто – «эволюционисты», но научные антропологические дискуссии не могли возникнуть ранее последней трети XIX века, именно – после публикации дарвиновского «Происхождения видов»… И кроме того, что в тексте подспудно присутствуют элементы психоанализа Фрейда (противопоставление «сексуального инстинкта» – «инстинкту Я»), само оперирование Поэтическим (= «образно-ассоциативным) и Утилитарно-практическим (= «логическим») мышлениями – прерогатива собственно экспериментальной психологии, а это уже – XX век.
Иными словами, сама идея разрыва и антагонизма в поэте «гения» и «терцезлодейства» – продукт обогащенно-извращенного в своем развитии менталитета: Синявский лишь провел эту линию до конца – причем, безусловно талантливо и эффектно, – и неприятие его «картины» Академией и окололитературоведением отнюдь не из разряда неприемлемости эстетических трактовок, а – из мистического ужаса перед собственным кривым отражением в увеличительном зеркале. Но то, на что в своей прозе Абрам Терц имел полное право – как бы выпуская своего Пушкина на волю – «резвиться», в подавляющем большинстве эстетствующих штудий просто остается за кадром, и в угоду наукообразным шаблонам «солнечное слово» Поэта подвергается вивисекции, темнеет – как видимое лишь сквозь затемненное стекло. Именно потому Пушкин так до конца и не понят – хотя вроде бы и описан в мельчайших деталях и со всех сторон – что сама суть искусства до сих пор под вопросом и общепринятой дефиниции ему нет. И виной тому – Логика, «логика в головах» – как методологическая «основа мышления». Парадокс здесь в том, что художники творят по каким-то особым законам, а оценивать их пытаются из неких «систематических соображений», то бишь – из причинно-следственной внятности и наукообразной традиции. На самом же деле – не логика, а СМЫСЛ является доминантой сознания (и лишь, в первую очередь, по степени обнаженности Внутренней Силы – «поэтического»), причем именно – «чистый смысл» в его материалистической ирреально-иррациональной ипостаси и неразрешимости.
(Окончание следует)
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

