Мы наш, мы новый миф построим

Известно, что в Нью-Йорке живёт очень много русских. Американцы,
которые в Нью-Йорке тоже живут, их любят и культивируют. Это
французам наскучило плутать в дефинициях загадочной L’Ame
Russe, для Америки же школа Станиславского – последние веяния в
сценическом искусстве, Чехов – наимоднейший драматург
(минимум десяток пьес на один театральный сезон небольшого острова
Манхаттан), Достоевский – самый крупный философ, а об
областях балета и космического кораблестроения и говорить не
приходится. Американцы, в отличие от кой-кого, далеко не ленивы
и страшно любопытны: беспрестанно закидывают они невод в
Аральское море сокровищницы российской культуры, в надежде
явной выудить и «одеть ризою своей» ту самую «раковину без
жемчужин». Фестивали русских фильмов, выставки русского
авангарда, несметное количество вечеров русской музыки, танца, кухни
и прочей керамики. И каждый раз, затаив дыханье, ждут честно
оплатившие входной билет доверчивые американцы, что
распахнётся занавес, рухнет стена, спадёт пелена и узнают они
Главную Русскую Правду. В январе на встрече с Татьяной Толстой
некий нетерпеливый Американский Человек не выдержал да и
ляпнул то, что мучит и гложет каждого Грамотного Американца:
«Скажите, а почему русская литература – самая великая?»
Остолбеневшая писательница замороковала-застопорилась в английских
артиклях, но основная идея была доходчивой: «А хрен её
знает!»
 Константин Кузьминский Фото: Антон Дынкин |
Нет, всё-таки, мы молодцы: какой пи-ар? У нас и слова-то такого нету
для пущей конспирации, а просто славянская доля такая –
робко стараться понравиться. Не цинизмом же особым объяснять
назидательные запевки для иностранцев про то, что именно у
нас, жертв сталинизма и серебряного века, была когда-то там
великая эпоха - заунывный жалобный кныч на забрале, то бишь
пентхаузе Нью-Йоркского Линкольн Центра, раздавшийся промозглой
атлантической зимой 2003 года. Либо же нас опять отымели
русофилы-доброхоты: поманили ломаным грошиком из далёкой нашей
московии вермонтской – спляши, Ванька! – и Ванька, оземь
ударимшись, выписывает жеманные старческие фигуры. Или то был,
по определению журнала для эстетствующих яппи “Time-Out”,
«крёстный отец русского авангарда» Константин Кузьминский?
Целую неделю дрессированные мишки исправно пели, наяривали и
декламировали. Называлась же серия сих конфузов «Шедевры русского
андеграунда»
Справедливости ради, замечу, что с музыкой всё обстояло достойно.
Три концерта - один представительней другого:
Шостакович-Шнитке - раз, Денисов–Сильвестров – два, Пярт-Губайдулина – три.
Удачный спарринг, музыканты на подбор и умные комментарии
преподающего теорию музыки в Лондоне виолончелиста Александра
Ивашкина – много ли слушателю нужно для счастья? Были также
некоторые прогулянные автором лекции по теории музыки и
поэзии, внушительная серия фильмов на тему «Композиторы в кино»
(от прокофьевских «Александра Невского» и «Ивана Грозного»
до «Цвета граната» Тиграна Мансуряна) и фото-выставка Сергея
Петрова и Александра Самойлова. Фотографу, несомненно,
проще: выбрал рамку попрочнее, сделал лицо поугрюмей – считай,
презентация удалась. С поэзией же всё несравненно жёстче:
во-первых, искусство её, как мы читали, «требует слов», а слова
наши посконные на аглицком кроме цитируемого никто из поэтов
и не писал. Во-вторых, поэт, по контрасту с музыкантом с
бабочкой и угрюмо-томным фотографом, существо
непрезентабельное, с плохой дикцией и рассеянным вниманием. Тем не менее,
неустрашимые устроители организовали ажно два дня поэтических
вечеров в одном из наиболее престижных концертных залов
Америки. Билетов, между прочим, было не достать уже недели за
три. В огромной очереди жаждущих припасть к источнику перед
началом концерта был замечен русско-нью-йоркский житель Вадим
Месяц – поэт не из самых ничтожных, но и именитые
приравнивались к простым смертным в борьбе за радость узнавания давно
заученных стихов. Эх, знай я что час грядущий мне готовит –
спал бы Месяц на моём стуле!
Кто платит, тот и пьёт царскую водку из рук неблагодарного зрителя.
Поэтические чтения гуляли за счёт венценосной вдовы Марии
Бродской – президентши одноименного мемориального фонда.
Точнее, за счёт усеянных яхонтами да каменьями изумрудными
столетних меценаток, строго бдящих со своих зарезервированных
стульчиков, все ли гости заморские предъявлены согласно
прейскуранту. Старушку обидеть – старинная русская игра, посему
самых ценных гостей, конечно, утаили: не досталось
покровительницам русской поэзии ни Лосева, ни Некрасова, ни даже Пригова
с Кибировым. А может, финансов тривиально не додали по
жадности-то. Но и наличие великолепной четвёрки вряд ли бы
подняло оплывшие веки аудитории.
Прослушивание аудиозаписей Ахматовой и Бродского - дело
душеполезное, но называть это по примеру известного пианиста и главного
куратора «Шедевров» Владимира Фельцмана «хэппенингом» я бы
не отважилась. Как и выступления ныне здравствующих
Горбаневской, Рейна, Уфлянда, Шварц и прочих дисгармонирующих друг с
другом талантов.
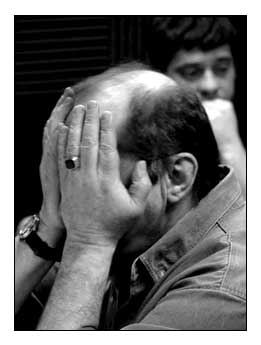 Аркадий Драгомощенко Фото: Антон Дынкин |
Дело, собственно, не в разнокалиберности
участников чтений. Даже первый по времени самиздатский журнал
"Синтаксис" А. Гинзбурга имел крайне неоднородный состав:
кроме Бродского, Еремина, Некрасова, Сапгира и других,
заведомо подпольных авторов, там печатались Ахмадулина, Кушнер,
Окуджава, Котляр. Проблема прежде всего в выборе Нью-Йорка
местом действия, ибо культурная память связывает слово
"андеграунд" с веселой жизнью именно нью-йоркской богемы 60-х годов:
альтернативные ночные клубы, наркотики, свободная любовь и
отменившее традиционные культурные иерархии поп-искусство -
посреди буржуазного благополучия и господства формальных
законов и норм. В Эсэсэсэре ж никакого благополучия, как нам
пояснили, в те времена близко не было, стало быть и нарядное
заграничное словечко обернулось пыльным и затхлым подполом с
соответствующими героями, на фоне которых тужащийся
поразвлечь публику не стихами, так матерком, не перформансом, так
нарядом К.Кузьминский – яркая личность. Да что Кузьминский,
вурдалак и титулованный друг Бродского и Довлатова Евгений Рейн
и тот пошёл на ура брюзгливой своей колготой, хоть чем-то
отличающейся от скороговорки симпатичных, но приевшихся как
названия собственных болезней, стихов, скажем, Уфлянда. Ну
сколько можно трепать одного и того же «Водолаза», царствие
ему, водолазу, небесное! Заклинающий зал именами дорогих
покойников Рейн, сам того не ведая, превратил своё выступление в
балаган. Для сравнения вообразите Мандельштама,
перемежающего чтения своих стихов строгими напоминаниями: «я, кстати,
друг Гумилёва. А Блок меня тоже очень любил. И Державин. Не
говоря уж о Бальмонте»
Вообще же поражал официоз вчерашних непослушных: научились не ёрзать в
президиумах, следить за выражением лица. Лишь маргинал Рубинштейн
откровенно жаждал выбраться покурить, но Лев Семёнович, похоже, был
единственным живым из невесёлой семейки стихотворцев. Он и читал
замечательно: «без выражения» и трагических воплей Гандельсмана
(читавшего почему-то не себя, а Цветаеву, но так, будто бы она –
Друнина), но и внятно, не в пример утробной скороговорке Горбаневской.
Анабиозу слушателей несомненно способствовали диковинные переводы, с
маниакальным упорством зачитываемые после каждого
сихотворения бывшим главным поэтом Америки Марком Стрэндом (для
чистоты жанра, очевидно, к бывшим русским поэтам присовокупили
бывшего американского): стихи, рассказанные своими словами
страдающими дислалией пациентами. Рейн, похоже, к этому привык,
и сам перед очередным стихотворением охотно пояснял, что
именно художник сейчас захочет сказать народу («ну, это про
то, как советские суки меня не печатали, а я за это каждый
день ходил в кафе «Метрополь»)
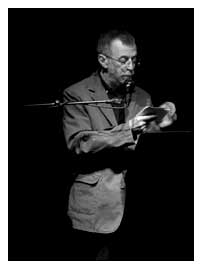 Лев Рубинштейн Фото: Антон Дынкин |
Были и другие страшные рассказы про нечеловеческие те условия
выживания. На чистом английском языке желающим услышать было
доказано, что кислород-таки перекрыли, по тюрьмам и психушкам
позапирали, андеграунд, следовательно, был, quod erat
demonstrandum! Допустим. Но, перефразируя Массимо д’Азельо: теперь,
когда мы создали поэтический андеграунд, нам необходимо
создать, собственно, поэтов. Поэзию же в те серые февральские дни
в Линкольн Центр не завезли. Не Юза же, прости господи,
Алешковского, пятьдесят лет подряд речетативом исполняющего три
свои народные песни, да так и не запомнившего слова,
величать поэтом. Присутствовала лишь заплутавшая во времени и
пространстве антисоветчина, слегка припудренная юродством. Без
своего могучего противника освободительный жест фиги из
подполья превращается в гаерство, в эстрадный юмор. Идейное
искусство – оксюморон, ср. ответ Малларме своему приятелю Дега,
вздумавшему писать стихи и жалующемуся на отсутствие успеха
при наличии «важных идей»: “Мой дорогой Дега. Стихи делаются
не идеями, они делаются словами”. Верить же в гениальность
поэзии сопротивления, независимо от её качества, является
галлюцинацией довольно причудливого свойства.
Литературу читают и помнят, разумеется, не только по чисто
литературным причинам, но и по тысяче других, внелитературных,
личных, сентиментальных причин. Сентиментальная память читателя не
разбирает при этом между официальным и неофициальным,
литературно релевантным и нерелевантным, и потому в ней всему
может найтись место. И все же есть особая прелесть в том, чтобы
не услужать читателю, не впадать в сентиментальность и
развлекательность, а заставить читать свой текст исключительно
по причине литературного качества написанного. Случилось ли
это на чтениях «Шедевров»? Безусловно нет. Равнодушие русской
части зала вдвойне это подчёркивало. А ведь нет никого
сентиментальней моего брата-эммигранта, обольщённого, вопреки
всему, млечными призывами ВМПСа. Но русские в Манхаттане
развращены синдромом «мы у папеньки и не такого едали». Знали бы
устроители вечеров прикуп – увезли бы всё это безобразие на
Брайтон, к ресторану «Татьяна» и гастроному «Юбилейный». Там
бы и за руки все брались в момент прослушивания
надтреснутого тенора, и в синий троллейбус бы всем кагалом садились. В
Линкольн Центре же нечистые записи Окуджавы и Галича после
стихов Мандельштама звучали... вот как если бы «Тату» после
Шостаковича заставили слушать. Нервические жесты читающей
нечленораздельности Елены Шварц остались бы простодушным
Брайтоном, конечно, непонятыми. Но не так, чтобы кто-то утруждал
себя расшифровкою их и в Манхаттане.

Обидно другое. Мы-то знаем, что у нас была великая эпоха. Мы-то,
несмотря на чувство неловкости, всё равно любовно разглядываем
непристойные жесты Кузьминского. Мы-то – плоть от плоти
«слишком ранних предтеч слишком медленной весны». Мы счастливы,
что они НЕ умерли вовремя, мы и сегодня обналичим
просроченный вексель их вчерашней славы. Вот только жаль американских
наших соседей по раскладным стульчикам, прилежно отсидевших
четыре (sic!) часа в первый и два во второй вечер чтений.
«Издали казавшаяся великолепным Иерусалимом, вблизи Москва
явилася бедным Вифлеемом» (Адам Олеарий)
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

