Сказки для взрослых и не только...
О литературном проекте «Послесказие» (Краснодар, 2016)
Почти любой литературный проект выходит за рамки художественного текста. Книжное и журнальное пространство часто становится ему тесно, и к реализации привлекаются другие средства, благо в настоящее время в них нет недостатка: кино, мультипликация, комиксы, живописное и сценическое воплощение. Не является исключением в этом смысле и литературный проект «Послесказие», родившийся не так давно на Краснодарской земле.
С момента выхода двух книг («Послесказие» и «Послесказие: дети» (под общ. ред. С.А. Лёвина, О.О. Карслидис, - Краснодар: Традиция, 2016.) обе антологии получили довольно широкий резонанс в средствах массовой информации[1]. Проект представлен на книжных фестивалях (один из них – «Шуховская башня», май-июнь 2016). В сентябре 2016 г. первая антология одержала победу на фестивале фантастики и комиксов «#МАРСНАШ». Книги отметились на фестивале фантастики «ТерриCON» в Донецке. А совсем недавно вышел анимационный нуар-фильм Ильи Гаркушенко «BullEnd», созданный по одноимённому комиксу из «Послесказия»-1.
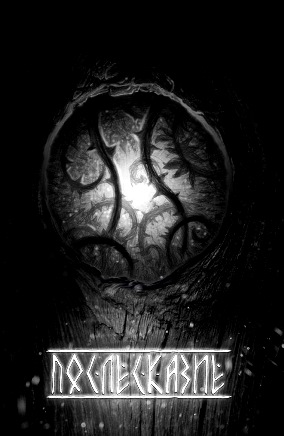 И всё-таки мы поговорим о тексте. Потому что, на мой взгляд, «Послесказие» уверенно выходит за рамки рядового регионального проекта именно благодаря тому, что вписывается в контекст современных литературных поисков: жанровых, стилевых, сюжетных.
И всё-таки мы поговорим о тексте. Потому что, на мой взгляд, «Послесказие» уверенно выходит за рамки рядового регионального проекта именно благодаря тому, что вписывается в контекст современных литературных поисков: жанровых, стилевых, сюжетных.
В обеих антологиях, первая из которых предназначена для взрослых, вторая адресована детям, собраны тексты более двадцати авторов. Они представляют собой вариации на тему народных сказок.
Из числа наиболее известных имён первого «Послесказия» можно назвать российского писателя, лауреата премии «Нонконформизм» (2013), финалиста премии Андрея Белого (2014) Алексея Шепелёва. В сборнике представлена его сказка «Колобок на малой родине». Выходец с Тамбовщины, Шепелёв и описывает Тамбов во всех узнаваемых деталях: Набережная улица с её крытым склоном, «лысые ежи», знакомые каждому тамбовцу (вертикальные клумбы на той же Набережной), ларьки и остановки. Отсылкой к культурному пространству малой родины является скрытая цитата из творчества Сергея Бирюкова, тамбовского же поэта, исследователя русского авангарда[2].
Пожалуй, уместнее всего рассматривать шепелёвского «Колобка…» в рамках его собственного творчества. Шепелёв – принципиальный противник массовой культуры и рафинированной идеологии. Ущербность подобного подхода он, собственно, и декларирует. Казалось бы, что плохого в здоровом образе жизни? Но вот утробное словечко «пропаганда» выворачивает наизнанку благие намерения. В подтверждение этой мысли картина поедания мороженого у Шепелёва выглядит почти идиотической: «Колобок… увидел совсем непредставимое: как два взрослых мужика схватили два переполненных рожка и начали их нализывать!»[3]. А уж если «здоровые ценности» пропагандируются попсовой певичкой («О боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына…»), то впору отвернуться от таких ценностей из одного чувства эстетического неприятия.
«Колобок на малой родине» является частью единого авторского пространства, представленного в других произведениях Шепелёва[4]. Все они переплетаются между собой посредством героев, сюжетных линий, узнаваемых деталей, цитирований и самоцитирований. Подобные приёмы укрепляют авторский мегатекст, делают его монолитным и в то же время объёмным, с выходом в пространство на разных уровнях.
Ещё один пример текста как эстетического «портрета» автора, неотделимого от его философии, - «Лиза со скалочкой» Ивана Карасёва. И. Карасёв – писатель, журналист, создатель искусственного языка Арахау, инициатор любопытных и масштабных лингвопроектов. Сказку Карасёва нельзя оценивать, руководствуясь привычными литературными канонами. Потому что здесь живет и дышит мифология. И известный сюжет про находчивую лису оборачивается онтологической притчей о целостности мира, в которой действует и колесо сансары (Liza v krugu…), и кельтские гончие псы, и пифагорейские сакральные числа (12 зверей о двунадесяти хвостах), и черты и резы древних славян.
Причинно-следственная связь в тексте Карасёва если и присутствует, то только как принцип воздаяния, работающий в сфере нравственности и духовности. Например, на слова хозяйки о том, что «не по-человечьи» будет присвоить лисьего детёныша, Лиза отвечает: «А справедливо было тебе, слепая карга, обменять меня на скалочку дремучей лисе. Это было по-божески?»[5].
Причинно-следственная связь – это ограничивающий закон, он удерживает в порочном круге против воли, оправдывая принцип «уступишь в малом – потеряешь всё». Отдали в обмен на скалочку мышонка – дело дошло до человечьего детёныша. Если вспомнить, что лиса в народной сказке поплатилась за то, что высунула из норы свой хвост, то интерпретация Карасёва возникла явно не на пустом месте: пожертвовала хвостом – пострадала сама. Впрочем, неумолимая судьба в лице странницы Лизы трактует это по-другому: пожалеешь малое – потеряешь всё. «Что же вы за народ такой? Уже и дохлого мышонка для меня пожалели. Мало ли такой скотинки в ваших амбарных норах? Приблудного медвежонка за скалочку мне отказали, а человеческого ребёнка продать лапа не дрогнула» . Всё потому, что миф, помимо всего прочего, отражает двойственность мира, без деления по принципу «хороший - плохой». Бинарность – естественное состояние реальности. И если обратиться к другим текстам Карасёва («Выря», «Добрая и сердитая», «Ученик колдуна»)[6], то у них та же почва. Автор намеренно отступает от наработанных принципов реализма и от линейно-мотивной структуры сказки, углубляясь в алогичное, архетипическое пространство мифа.
Скалочка выступает неким сакральным предметом, ключом, при помощи которого хронотоп разворачивается, обнаруживая новые грани измерения и новые смыслы, где «Лиза в кругу зверей» - уже не локальное понятие (в смысле, находится в кругу зверей), а онтологическое (такой же зверь, как они). А воздаяние воплощено в образе собаки. Древний мир ещё не знает милосердия, присущего религии. Поэтому возмездие неотвратимо, как всадники Дикой Охоты и беспощадно, как гончие псы. Лиза в собачьей шкуре, настигающая старую лису – Лиза в человечьем обличье, сжимающая в грязных пальцах клочок лисьей шерсти, – Лиза в образе лисы. Это не игра и не загадка. Это персонифицированное приятие мира в его целостности. Нельзя потрепать хвост так, чтобы не пострадала лиса. Поэтому, притесняя жертву, палач губит сам себя.
И процесс никогда не закончится, потому что время не вытянуто в линию, а замыкается в солярный круг, благодаря чему «завтра спотыкается о вчера». Невозможно определить, кто держал неразменную скалочку вначале: Лизонька в руках или лисонька в лапах. С чего всё началось.
Сергей Лёвин – еще одна заметная фигура проекта. Поэт, прозаик, публицист, автор стихотворных и прозаических сборников, финалист Литературной премии Фонда им. В.П. Астафьева (2016). В антологии представлена его сказка «Рыжая бестия». Автор работает с комбинацией жанров хоррор-детектив. Традиционно стиль Лёвина отличается гиперреалистичностью. Автор выхватывает из тягучей действительности нечто необычное, из ряда вон. Это «нечто» пугает, заставляет вздрагивать. Однако «Рыжая бестия» - не просто переложение «Заюшкиной избушки» и уж точно не заурядная «пугашка». Если привлечь к анализу другие тексты писателя, созданные в подобном ключе, то «Рыжая бестия» становится частью единой авторской формулы, согласно которой пугающие необычности – это как раз свидетельство заурядности жизни. Они как нарывы, прорастающие в повседневности, как болезненное и искажённое воплощение тоски по несбывшемуся, необычному, родственному мечте. Убийственные буквы на стене (рассказ «Надпись»), странное отверстие в теле человека («Дыра»)[7] – это всё изливается гнойной лавой сквозь трещины бытия, прорывая коросту будней. Чем грубее короста, тем мощнее взрыв, разрушительнее трещина, тем монструознее порождения тьмы, которые скрываются за обычной, слишком обычной жизнью.
Это противоречие Лёвиным чувствуется особенно остро, потому штрихи его прозы отличаются резкостью и контрастностью: «Башка казалась несуразно маленькой, похожей на футбольный мяч… Она лежала в грязи в окружении кривых былок перезимовавшей прошлогодней травы как инородный предмет... Логово освещали проникающие сквозь ведущий на кухню дверной проём безжизненные лучи умирающего дня да тусклый свет, с трудом пробивающийся сквозь слой слизи на оконном стекле»[8]. Это не живопись, а графичность. Может быть, поэтому так органичен дуэт писателя с художником Ильёй Копаневым, с его графическими работами, которые стали иллюстрациями к означенному тексту «Послесказия», а также авторскому сборнику повестей и рассказов «Космос».
К слову, И. Копанев – автор большинства иллюстраций сборника. Надо сказать, впечатление разнородности, неизбежное для подобного рода проектов, во многом сглаживается именно благодаря его работе. Кроме того, сборники выдержаны в русле единой концепции, которая состоит в осмысливании определённого периода времени в контексте истории, а также в попытке развернуть базовую матрицу сказки в современном культурном пространстве. Это всегда интересно.
Некоторые представленные «старые сказки на новый лад» зачастую вообще лишены волшебства. А если оно присутствует, то основной роли не играет, потому что в центре внимания автора совсем другое. Горькая судьба обманутой женщины, например («Две пары золотистых глаз» Марии Казаковцевой), интересует нас гораздо больше, чем её умение обращаться в рысь. Умение это выглядит попыткой спасти себя и своего ребёнка, а приобретено от отчаяния и невозможности добиться справедливости «нормальным», человеческим способом.
Из того же разряда история Ольги Карслидис «Интуиция». Повторяющая известную бытовую сказку «Бедный мужик», история в очередной раз заставляет читателя встать над пропастью между мечтой и реальностью. История, рассказанная Карслидис, интересна в общем контексте поисков одного из типических героев. Легко писать про выдающуюся личность. Про маргиналов тоже, наверное, легко. Но попробуйте отобразить мысли и надежды самого обыкновенного человека! Не скажу, что автору это удалось в полной мере. Причина не в авторской беспомощности, отнюдь, а в том, что ни формат, ни объем сказки этого не позволяют, сказка все-таки работает с обобщенными образами. Но как зерно, из которого в произведениях иного масштаба вырастает глубокий и убедительный характер, «Интуиция» представляет безусловную ценность.
«Кривая уточка» Дарьи Тоцкой могла бы показаться незамысловатой историей из жизни, если бы не затрагивала одну очень важную особенность человеческой личности, с одной стороны, уходящую корнями в индивидуальное бессознательное, с другой – пополняющую галерею стереотипов. Особенность состоит в том, что очень часто детская самоидентификация проецируется на взрослую жизнь. Проще говоря, кем ты считал (или тебя считали) в детстве, тем ты и остался, и никакие жизненные обстоятельства, никакие взлёты и падения не способны это исправить.
Героиня «Кривой уточки» тому подтверждение. Вероятно, по этой причине финал сказки вызывает естественный протест. Понятно, что сюжет отсылает не только (и не столько) к одноименной народной сказке, но и к волшебной истории Андерсена, к счастливой развязке «Гадкого утёнка». Но где же тогда момент перерождения? Переломная точка, щелчок осознания, качественная перезагрузка, катарсис – где это всё? Читатель остается в недоумении. А чуть позже понимает, что катарсиса не будет, да оно и не нужно. Потому что не произошло этой самой качественной перезагрузки. Героиня внутри себя осталась прежней кривой уточкой.
Другая группа текстов иронически обыгрывает известные сюжеты. Сказки Сергея Графа «В некотором царстве» и Александра Ольшанского «Жил-был царь» дополняют имеющийся в русской классике список по принципу продолжения летописи. У авторов разная интонация. Явственная горечь и сочувствие к обиженным слышится у Ольшанского. Изящно выписанный текст Сергея Графа пронизан едкой иронией. Однако любому, самому совершенному произведению важно найти свое место в литературном пространстве современности. Получается же вот что.
Как бы ни стремился автор придать тексту статус политической сатиры, подобные сказки рискуют приобрести характер условности, потому что болезни у власти одни и те же, опасности любого режима легко прогнозируются, а народ… Народ берётся за топоры или приспосабливается. Второе чаще. К тому же при нынешнем обилии информации притупляется восприимчивость массового читателя, привыкшего к повышенному градусу политической сенсации. Это заставляет усомниться в актуальности социально-обобщающей сатиры на сегодняшний день.
Не менее иронична, хотя и в другом ключе, сказка А. Голоты «Колобухин-экзистенциалист». Логично выстроенные диалоги, текст, перенасыщенный именами и дефинициями, создает впечатление игры в бисер, изящного умствования. Однако, если оставить без внимания бойкое жонглирование словами и понятиями, то оказывается, что «Колобухин…» - притча о том, что умозрительная философия далека от подлинной жизни и в столкновении с реальностью обречена на поражение.
Значительная часть текстов «Послесказия» - это интерпретация сказочных сюжетов с уклоном в мистику и фантастику. По сути, авторы названных текстов повторяют путь зарождения и развития нетривиальных жанров, тяготеющих ко всему необычному и необъяснимому. Вспомним, что, допустим, русская фантастика ХIХ века активно использовала сказочные и романтические сюжеты для создания произведений нового формата.
В этой связи заслуживают внимания сказки «Мышка бежала» Виктора Мальчевского, «Кот учёный и его камень» Юлии Клиндуховой и «Смерть в плацкарте» Алексея Двоеглазова. Обращение к фантастическому методу перечисленных авторов вполне закономерно. В. Мальчевский позиционирует себя в качестве писателя-фантаста. Область научных интересов кандидата технических наук Ю. Клиндуховой представляет собой естественнонаучную сферу. И, в общем, чувствуется, что авторы далеко не новички в жанре фантастической повести.
В истории А. Двоеглазова отчетливо прослеживается конфликт в замкнутом пространстве и характерное разрешение этого конфликта по принципу «выживает сильнейший». Автор послесловия к сборнику увидел в сказке Двоеглазова отголоски «Десяти негритят» Агаты Кристи[9]. Можно дополнить это сопоставление кинематографическим рядом. Конкретных примеров, где в результате борьбы остается только один, слишком много. Так же много фильмов с постапокалиптическим финалом, который рисует автор: «Последний живой гуманоид, оставшийся на планете, плёлся по городу, устланному обезображенными телами».
Нельзя не заметить, что ближе к финалу сюжет «провисает», непонятно, отчего случился апокалипсис и все погибли. Конечно, перипетии сюжета вторичны в соотношении с проблемой, которая волнует автора. И в идейном плане развязка оправдана и понятна: цивилизация, игнорирующая нравственные заповеди, обречена на гибель. Но всё-таки, я считаю, это серьёзное упущение, в особенности для автора, профессионально работающего со сценариями. А. Двоеглазов – довольно известный кинокритик, поэтому влияние кинематографа на его творчество совсем не случайно.
Однако недостатки сюжета с лихвой компенсируются остротой конфликта. В его разрешении автор не утруждает героев излишней рефлексией. Всё грубо, просто, прямо. Чтобы не заслонять основной мысли о скором вырождении изуродованной цивилизации, о конце пути. Последняя мысль выражена в сопоставлении тюремной камеры с плацкартным вагоном. Художественное пространство создает иллюзию движения и одновременно развенчивает эту иллюзию. Это только кажется, что путь продолжается, на самом деле поезд давно стоит и дороги дальше нет. Такой же иллюзией оказывается разнообразие гуманоидов: кто-то с хоботом, кто-то с хвостом, у кого-то вообще две головы. В стремлении выжить все проявляют себя одинаково. Что печальнее всего – одинаково безжалостными.
В сказке «Кот ученый…» Ю. Клиндухова использует классический приём «временной петли», весьма распространенный в научной фантастике. Реализуясь в разных вариациях, данный приём состоит в установлении причинно-следственной связи между прошлым и будущим. Парадокс временной петли всем известен: попадая в прошлое, герой меняет свое будущее, которое, в свою очередь, обусловлено прошлым. Автор не усложняет хронологическую структуру и вводит простую одноходовку: цивилизованные звери из будущего на машине времени попадают в мир предков, и их похождения становятся основой тех сказок, которые мы знаем. Нормальный приём, имеет право на существование. Но в сопоставлении с гигантским многообразием народных сказок, их мотивов, заимствованных и оригинальных сюжетов и героев подобное развитие событий выглядит упрощенно. То же самое можно сказать о сказках «Мышка бежала» и вышеупомянутой «Смерти в плацкарте». Трансформируя известные сюжеты «Курочки Рябы» и «Зверей в яме», авторы развивают не менее популярную тему взаимодействия с «чужими». Но если повторяющиеся мотивы в сказках – это норма, то для фантастических произведений обращение к распространенным темам и приёмам рискует превратиться в штамп.
Ирину Иваськову («Снегурочка») интересует другой источник народной сказки – обряд. Поэтому жизнь её героини представляется как бесконечная череда испытаний. Не тех, что посылаются судьбой и через которые, как сквозь буйный лес, продирается обычный человек. Это удел тех «никчёмных, горячих», приземлённых, с которыми Снегурочка пребывает в невольном противостоянии. Свои испытания она придумывает себе сама, и прыжок через костер, который повторяется ритуально – в свой срок и с соблюдением определённых правил – становится для неё своеобразной инициацией, проходя через которую, она завоёвывает право на жизнь.
Обыкновенные люди боятся смерти и рождают себе подобных. Ничего подобного не испытывает Снегурка. Она лишена страха смерти и инстинкта размножения. «Скажите на милость, отчего вы так любите цвет земли, но так пугаетесь смерти?» Это не риторическая фраза, это действительно неспособность понять иноплеменников. В лаконичном тексте Иваськовой на самом деле содержится очень много. Например, мысль о том, что люди очень разные, иногда до невозможности постичь друг друга. Или проблема цивилизованного человека, который в чём-то остался первобытным и ему нужно время от времени испытывать себя на прочность. Наконец, убеждённость в том, что невыносимо становиться живым прахом, лучше оборвать жизнь на взлёте. И многое другое.
Если сосредоточить внимание на волшебных моментах, то сказка Иваськовой – это затянувшаяся история про Снегурочку, вариация с продолжением, столь же печальная, как и привычный финал всем известного предания. Но можно воспринимать «Снегурочку» как реалистическое произведение, и тогда это символическая история достойного завершения жизни.
Словом, «взрослая» антология, осмысливая древние сюжеты в современном контексте, достигает цели, предоставляя читателю новые интерпретации. Второй сборник «Послесказия» рождается на гребне успеха и, казалось бы, рассчитывает на столь же мощную поддержку. Однако здесь не всё так просто.
Прежде всего разрушается художественная и смысловая целостность, достигнутая интуитивным «попаданием» авторов в первой книге. Всё, от оформления до названия, говорит о том, что эта книга предназначена детям. Всё, кроме содержания.
 Рассуждать об особенностях «взрослой» и детской литературы сложно, потому что различия между ними, безусловно, существуют, но они, как бы сказать, неканонические.
Рассуждать об особенностях «взрослой» и детской литературы сложно, потому что различия между ними, безусловно, существуют, но они, как бы сказать, неканонические.
Действительно, по каким таким признакам мы можем отличить взрослую литературу от детской? Иной лексический ряд? Пожалуй. Ведь он отображает процесс мышления юного человека, его словарный запас, устойчивость его мысли и длину логической цепочки. Но это не значит, что ребёнок не в состоянии понять более сложные рассуждения. И потом, дети бывают разные.
Качество текста? Даже не обсуждается!
Тематический круг? Безусловно, некоторые темы ребёнок в состоянии осознать только при наличии определённого жизненного багажа. Но существуют ведь книги «на вырост», вроде бы детские, но с совершенно серьёзным посылом, адресованным вполне зрелой личности.
Интонация? Правильно. Дети весьма чутки к фальши, они не терпят экзальтации и назидательности. Им не нравится, когда с ними говорят свысока. А когда заигрывают, пытаясь сойти за «своего», нравится ещё меньше. Здесь приемлема единственно верная интонация: доверительная. Но чем измерить степень искренности? Нет такого теста. И прибора такого нет.
Все эти положения – скорее предмет дискуссии, нежели признаки, позволяющие чётко отделить один вид литературного творчества от другого. И всё же, всё же…
Вот один из авторов «детской» антологии, интересно, в общем-то, совмещая сюжетные и обрядовые традиции в истории про Снегурочку (опять про Снегурочку и опять про обряды!), на полном ходу действия бросает фразу: «Таковы были многовековые обычаи наших предков, преклонявшихся перед силами природы. Проведёшь пышно весну – будет тебе и плодородное лето. Встретишь с почтением осень – и зима задастся»[10]. Это фраза учителя, считающего своим долгом заострить внимание на особо важном моменте. Автор как будто спохватывается и «включает» взрослого. Читатель спотыкается, и полного погружения в текст не получается! А без полного погружения не бывает равноценного и доверительного диалога с ребёнком.
«Взрослая» антология получилась интереснее, потому что от авторов не требовалось ничего особенного, кроме творчества. Пишешь как дышишь, и всё. А во второй части их как будто поставили перед детской аудиторией, и они растерялись. Они пытаются «соответствовать», но это не работает, потому что с детьми не нужно играть роль. Либо ты становишься на другие рельсы и обсуждаешь темы, интересные детям, на языке, понятном детям. Либо – да-да, пишешь как дышишь в надежде на то, что юный читатель дорастёт до предложенного тобой творения. Надежда, скорее всего, оправдается. Ведь изучают же в школе совсем недетские произведения Тургенева, Бунина, Толстого, Достоевского.
Критика второй книги сводится, в общем-то, к сомнительному выбору целевой аудитории. Дело в не в качестве текстов, а в своеобразном эффекте обманутого ожидания. Когда рассчитываешь съесть сладкое, а чувствуешь на языке пронизывающую кислоту. Ждёшь хорошей, крепко сработанной вещи для детского чтения – и получаешь не вполне внятное высказывание.
Однако именно появление этих двух книг в рамках одного проекта предоставляет возможность в очередной раз поговорить об особенностях взрослой и детской литературы, определить возможности сказочных сюжетов и их современного прочтения, выяснить пути и результаты поисков сказочного героя.
Литература
- Бирюков С.Е. Муза зауми. Тамбов, 1991.
- Карасев И. Выря. Краснодар: «Советская Кубань», 1999.
- Лёвин С. Космос. Краснодар, 2015.
- Мороз О.Н. Сказочники и их сказки // Послесказие. Краснодар: Традиция, 2016.
- Послесказие. Краснодар: Традиция, 2016.
- Послесказие: дети. Краснодар: Традиция, 2016.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

