Путеводитель по N. Часть третья
Текст содержит ненормативную лексику
Он был потрясен, распростерт, подавлен, расплющен. За латынью и
греческим опрокинуть грог самого почтенного калибра. Его больше
не было, не было больше ученика почтенной Шульпфорты, что,
правда, не противоречило его физиологии, быть может, и
физиологии Саллюстия. Кайяфу он заковал в кандалы. Оставалась
только она, вся эта масса, которая навалилась на него. Он
дрыгался под собственными обломками. Пытался приподняться,
разглядеть ее. И снова был оглушен, распластан, повержен. Фриц,
повторяла она, тебя зовут Фриц, мой маленький ослик... Она была
вне себя, она давила его всем своим весом, запихивая свой
язык в его глотку, выдавливая наружу остатки школьного
наушнического страха. Белая смерть. Она необузданно обнимала его,
изо всех сил он вцепился в ее ягодицы, когда она ловко
направила его еще не окончательно затвердевевшый член в свою
дыру. Он исчез в ней со страшным бульком. Чертова шлюха. Он
окаменел от любви. Он дрожал и дрыгался. Она постанывала и
ворковала. Она пела. Давай глубже, пихай его туда, давай. Глубже.
Ну. У вас же прекрасный здоровенный хуй, герр профессор.
Ах. Как ты меня протыкаешь, скотина. Проткни меня. Давай.
Давай, ослик. Мой маленький засранный по самый уши ослик. Ну же.
Ну. Он весь взмок. Он старался. Работал. Глаза, веки, лоб —
все залеплял горячечный воск. Уничтожить Вильгельма,
Бисмарка и антисемитов. Чертова шлюха. Он кончил. Что бы ни думала
об этом почтенная Шульпфорта.
Крошечное пятнышко на вершине горного хребта — это он. Сейчас он на
этой вершине, изучаемый со всех сторон. Они говорят, что
видят его. Говорят, что насквозь. Обсуждают. Они говорят, что
крошечное пятно на вершине горного хребта, это он. Пусть так.
Склоны в том месте, где он лежит, пологие, они
распластываются под ним, это не седловина, не яма, не постель, не
кушетка, не софа в Трибшене, не носилки. Быстро, скоро, все вместе
они водружают его на вершину. Что тут сказать, они хотят
поверить в него, чтобы придумать, увериться, они ничего не
видят, они видят крошечное серое пятно, похожее на груду
тряпья, похожую на кучу дерьма, похожую на струйку дыма,
неподвижную на фоне серого неба. В том месте, где он мог бы быть. В
том месте, где он должен быть. Должен же он где-нибудь быть,
допустим, там, где они предписали ему, где они хотят его
видеть. В Энгадине. Или в Сильс-Мария. Один за другим, в
надежде сдвинуть его, услышать, как он шевельнется, как он
появится в пределах досягаемости их рук, их карандашей и шприцов,
скальпелей и молотков, спасенный, наконец, вернувшийся домой,
наконец. В лоно семьи, в лоно интерпретации. Теперь и он
сам захочет узнать, где кончается его интерпретация, где
кончается его царство, его глаз пытается проникнуть сквозь мрак,
он мечтает о палке, о руке, о пальцах, способных
пошевелиться и в нужный момент дотянуться, ухватить, взять и
расстегнуть пуговицу, взять то, что стоит на подоконнике, или толкнуть
резиновое колесо ортопедического кресла, развязать кожаные
ремни намордника, сквозь щели которого так трудно дышать и
уж совсем ничего невозможно видеть. Или о способности издать
крик, да что там крик, пискнуть, он бы с удовольствием
пискнул, он бы позволял себе иногда вот так тихонечко попищать,
как пищат крысы, никому не мешая, самую малость, чуточку
попищать, вот и все. Тишина, если не считать этих шепотков,
перемигиваний и писем, тишина, предшествующая разговорам и
книгам, не все время, но почти все время тишина, это рай, было бы
раем, если бы не бесконечные письма, разговоры и книги. Они
проникают сюда. Пузырьки шампанского. Воздушные шары.
Лопаются вокруг. У него нет больше воздуха, чтобы в нем
задыхаться, нет света, чтобы ничего в нем не видеть. Когда они уйдут,
а они никогда не уйдут, нет, уйдут, завтра, послезавтра,
через неделю, в один прекрасный день, в один прекрасный вечер,
когда-нибудь, никогда, медленно, подмышку со своими
книгами, отбрасывая длинные тени, к своему хозяину. Он больше не
шевельнется. Тогда.
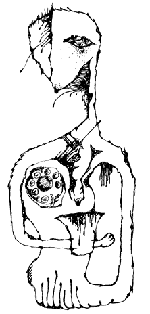 |
| Л. Калаус |
На этом месте рассказчики пытаются напомнить, каким он был тогда,
этот гальванизированный (во всех смыслах) труп. Прошло ведь
немного времени, легко сосчитать, всякий может сосчитать —
сколько. Из окон высовываются лица. Легко понять, почему из
всего, что произошло потом, передают лишь одно: эти
высунувшиеся из окон лица. И еще жест, заклинающий жест, с каким он
кидается — здесь версии незначительно расходяться — к лошади,
которую секут по глазам, или под колесо экипажа. Кидается, о
чем-то моля. Испуганные, растерянные, они поднимают его.
По-своему объяснят его порыв. Прощают. Прощают? Какое, должно
быть, было для него облегчение, что его не поняли, несмотря
на отчаянную одназначность его порыва. Потом два господина с
некоторой поспешностью вошли в комнату: это были доктора.
Первый нагибал, как для боданья, будто снабженную рогами
голову с тем, чтобы разглядеть поверх очков: Овербека, затем
меня. Он поклонился со студенческой церемонностью. Коллега его
был высокий, тонкокожий, светловолосый юнец. Наступила пауза,
ее необходимо было заполнить. Прошу вас, сказал Овербек.
Старший сделал несколько шагов по направлению ко мне. Нет
необходимости... то есть, я полагаю, вам лучше бы... Я знал, что
смогу это вытерпеть и незачем уклоняться. Едва обнажилась
грудь, он нацелился на нужное место. Но легко приставленный
инструмент туда не проник. Мне показалось, что время — все
сразу — вышло из комнаты. Но вот снова, с легким скользящим
шорохом, время вернулось. Его даже стало слишком много. Что-то
стукнуло — сдавленный, душный, сдвоенный стук. Тотчас я
увидел («тотчас» — то есть с некоторой задержкой), как доктор
нанес свой удар. Он сохранял полнейшую невозмутимость,
быстро, четко работащий господин, которому в этот день надо успеть
еще куда-то. Ни малейшего признака удовлетворения
сделанным. Лишь на левом виске, уступая древнему инстинкту, встало
дыбом несколько волосков. Он осторожно извлек свой инструмент.
Открылся как бы рот, выбросив кровь двумя толчками, словно
произнеся нечто двусложное. Юнец элегантным движением отер
рану ватой. И она успокоилась.
Ничего тяжкого, ничего шумного, едва только ропот, какие-то далекие
голоса, в комнатах, чьи стены проницаемы для твоих шагов,
шепот; от него не укроешься, не спрячешься, он беспрерывен.
Опережающий отголосок того, что не было сказано, и никогда не
будет. Пустая, ничтожная речь, не говорящая ничего, в то
время как она, кажется, говорит что-то; только в ней одной и
таится то, что связало его с беспредельной ночью. Именно о ней
я и грезил, а никак не об истине, даже не об истине этой
ночи; к ней не приблизиться, даже если столкнешься лицом к
лицу, близость с ней невозможна, как бы интимна она ни была,
как бы не разверзался мрак, равнодушно и холодно принимающий в
свое лоно холод руки. Она повторяет за мной, она пишет;
речь, без начала и без конца, она говорит, она не перестает
говорить, словно глаголет сама пустота, какой-то шум,
настойчивый, безразличный, один и тот же, без сомнения, для всех без
различия, не содержащий никакой тайны, секрета, но
заманивающий в насмехающиеся лабиринты, увлекая все дальше и дальше,
вплоть до немыслимого безрассудства, до безрассудного
отвращения: назад, назад. Я бы хотел возжелать эту никчемную речь
больше, чем самого себя, больше, чем желаешь призрак, к
которому не подступиться даже во сне, привидение, легким
касанием пальцев убивающее остаток дня, только на коже остается —
как на морозном стекле — узор его дыхания. Дальше, дальше.
Больше, чем ничего не желать, да и о чем говорить. Обыденный
мир. Ни обещания, ни надежды. Нигде, повсюду. И я могу это
повторить еще раз. Посмертная маска. Она возлежит, несомая
половодьем постели, точно приливом ночи. С ворохом готовых,
наконец, бумаг он делает два шага в неопределенном направлении,
в тупиковый закуток ночи, он должен завершиться дверью, ее
белой дверью. Она читает, опершись на руку. На его
приветствие следует короткий взгляд поверх книжки. Ободренный ее
кивком, он садится у постели и начинает свою реляцию. Она
слушает его с некоторой рассеянностью, досадно, что она не
перестает при этом читать. Она дает ему возможность всесторонне
осветить проблему, представить все pro и contra, затем, оторвав
от книжки глаза, высказывает свое мнение. Чуткий и
внимательный к любому ее слову, он подхватывает тон ее голоса, чтобы
уловить скрытое побуждение. Потом предлагает декреты на
подпись. Она подписывает, опустив ресницы, отбрасывающие густую
тень, и с легкой иронией наблюдает из-под них, как он
ставит свою. С этой минуты они оказываются во времени
по-настоящему царственном. Союз их скреплен. Но что это? Всегда
сдержанная и серьезная, воплощение послушания и дисциплины, она
теперь сама капризность, строптивость и непредсказуемость.
Документы разложены на обширной равнине одеяла. Она небрежно
берет их, нехотя бросает взгляд и безразлично упускает меж
пальцев. С припухшими губами, она не спешит с решением и
заставляет его ждать. Поворачивается спиной, закрывает уши
ладонями. Внезапно, без слов, одним движением ноги под одеялом
сбрасывает бумаги наземь и глядит из-под локтя загадочно
расширенными зрачками, как он, согнувшись, подбирает их, сдувая
хвойные иголки и листья. Глаза ее углубляются, на губах
возникает улыбка. Хочет ли она ему в чем-то открыться? В чем-то
сокровенном? Она говорит о докторе, об измене, глаза сужаются,
она настойчиво изучает его лицо, побледневшее лицо цезаря.
Сделай это, шепчет она, и станешь единственным. Когда он в
отчаянье прикладывает палец к губам, ее лицо вдруг становится
злым и ядовитым. Ты смешон с этой своей миссией. Бог знает,
что навоображал о себе, о своем величии. Он послушен,
послушен вплоть до самоотрицания, до самоуничижения. Потом вдруг
вынимает из-под шелкового пеньюара это (его
ослепляет белый металлический отблеск в прозрачных складках —
закатившееся в пустые глазницы ночное солнце) и спрашивает
с равнодушным торжеством: помнишь сестру, с которой ты
играл, когда был маленький? Он удивленно смотрит на нее. Это была
я, говорит она, хохоча, только я была в то время мальчиком.
Я тебе тогда нравилась? Каким-то образом он об этом
проведал и взял себе за правило по вечерам стучаться в дверь maman.
И когда она спрашивала, кто там, он с восторгом отзывался,
истончая свой голос до того, что начинало першить в горле.
Когда он входил (в почти девчоночьем домашнем платьице с
засученными рукавами), он уже был фрау, мамочкина фрау, которой
maman заплетала косичку, чтобы не перепутать ее с Фридрихом,
если Его Высочество внезапно нагрянет. Это считалось весьма
нежелательным, они наслаждались его отсутствием, и беседы
их, которые велись неизменно пронзительным голоском, в
основном сводились к жалобам на него. Ах уж этот Фридрих, вздыхал
д-р Бинсвангер. А она много чего еще могла рассказать о его
проделках, о почтовых открытках, об «Антихристе», о
хорошеньких русских дамочках в Ницце. Хотелось бы знать, что сталось
с принцем, вдруг замечала она посреди воспоминаний. Доктор
мало что мог ей сообщить. Но когда он предполагал, что,
верно, принц мертв, она отчаянно спорила, молила его этому не
верить, хоть и не могла представить решительно никаких
доказательств.
II
Все это свалилось на меня, точно во сне.
Я хочу сказать, меня это никоим образом не касалось, не имело ни
малейшего отношения, и все же, не скрою, окольными путями я
приближался к нему, хотя и ощущал себя стесненным
обстоятельствами, как если бы оказался в слишком тесных объятиях
незнакомого человека. Что провоцировало на ответный шаг; я не мог
перепутать, так ошибиться временем и пространством, чтобы
навлечь на себя как раз то, от чего собирался отказаться под в
высшей степени благовидным предлогом. В этом присутствовал,
кажется, некий рок.
«Слишком поздно, почти через год я узнаю ту роль, которую вы играли
в известной истории прошлого лета... Итак, это значит, вы
клеветали на мой характер, а m-lle Саломэ только передавала и
очень нечестно, низко передавала ваше мнение обо мне? Так
это вы, в мое отсутствие, разумеется, говорили обо мне, как о
вульгарном и низком эгоисте, готовом всегда ограбить других?
Это вы обвиняли меня в присутствии m-lle Саломэ в самых
грязных намерениях на ее счет под маской идеалиста? Это вы
осмелились сказать про меня, что я сумасшедший и сам не знаю,
чего хочу?..».
3 января апоплексический удар на улице и окончательное помрачение.
Мама, ваш сын прекрасно болен. Скажите сестре, чтобы она как
можно дольше оставалась в Парагвае, как можно дольше замужем
за...
Его безумие, ну кончено, о чем это я, все еще событие стиля, знать
не знавшего никаких границ, дошедшего в своем совершенстве до
ручки, или оно принадлежит уже чему-то (или кому-то)
другому; тому, что само уже не принадлежит ничему, но, безымянное,
требует дать ему место?
Не спрашивайте меня. Инкрустация. Коллекция Зейдлица. Японские
безделушки. Ирена. Возвещавший смерть Бога сам умирает для мира
сего, будучи на одиннадцать лет помещен в клинику для
умалишенных. Что, тем не менее, еще не означает того, будто бы он
перестает быть.
Это не отчет с места событий. Спросите Больного. Что же теперь все
эти церкви, как не надгробья его?
Мои надгробья — ему.
В последний раз он был Фридрихом-Вильгельмом IV. Он был еще
Сократом, Эдипом, был сфинксом, которая бросилась с университетской
скалы. Он был Вагнером, был женой Вагнера, он увел ее от
себя, привел к Гансу фон Бюлову. Время от времени ясное
сознание своей болезни. Часто испускает нечленораздельные звуки.
Принимает привратника за Бисмарка, а Отто — за Людвига. Меня,
за кого он принимает меня? Почти всегда спит на полу у своей
постели.
Связность или бессвязность речи зависят от того, к кому она
обращена, к нему-то я и обращаюсь. Не знаю, зачем ему нужно было, по
его собственным словам, 16 декабря, когда никто уже не мог
ничему помешать, «так ускорять трагическую катастрофу моей
жизни, которая началась с Ecce». Прадо,
Лессепс, Шамбиж, издали я смотрел, как их увозят, увозят
навсегда от меня, который издаст путеводитель и будет погребен: в
течение одной эйфорической осени — дважды. Дважды я
присутствовал на твоих собственных (это не описка) похоронах. Мог бы
присутствовать трижды. Ведь его — трое. Или четверо?
Каждый из них мертв, можно не сомневаться. От бессмертия, как
никогда бы не сказал ни один доктор.
Он был Цезарем, мог он быть и кесарем, и наместником кесаря.
Содержание этих открыток не оставляет у адресатов и перлюстраторов
никаких сомнений: их отправитель безумен, он тронулся; но у
меня не раз возникала мысль о далеко заходящей работе траура
или самоинсценировании (затмение подписи в миг самой
короткой тени, перепад между надгробием при жизни и пожизненным
великим полднем). Не были ли эти открытки открытием памятника
«совершенной книге», с расчетом на катастрофу, рецептура
которой, я знаю, хранится в его бумагах за 1887 год; не были ли
они прологом ко всему тому, что произойдет позже, своего
рода эпитафией, г-н Родэ? Здесь берут начало более утонченные
законы стиля: они одновременно держат на расстоянии, они
сотворяют дистанцию, и попутно открывают уши тем, кто сродни
нам ушами. Всякий более аристократический ум и вкус, желая
высказаться, выбирает себе своих слушателей, выбирая этих (и
именно этих), он в то же время ограждает себя от других.
Встань, Больнов, встань и иди.
Ты же никогда им по-настоящему не интересовался — наши с ним пути
пересеклись совершенно случайно, но в тот день у меня с трудом
получалось изображать удивление. Статья в новый Лексикон,
гм. Проект. Ну и пусть это напишет компьютер. Amor fati.
Коньяк быстро нагревался на солнцепеке, но таял во рту еще
быстрее. Шел пух — тополиный ледоход на реке. Кстати, о проекте.
Ты заметил, что произошло с этим словом на наших глазах? Так
впервые было произнесено имя Х. Да, конечно, в его
терминологии это хуже, чем декаданс. Уже у французов заметно
опрощение, если не подмена, к тому же перевод. Вот именно, перевод
перевода. Сегодня это слово означает буквальным образом
хлеб, хлеб наш насущный даждь нам днесь, и они дают, вот что
странно. Потому что у них уже нет никаких проектов, в том,
классическом смысле, проектов в себе.
Через два месяца статья лежала на моем столе. Он торопился,
опаздывал на поезд в Москву, из которой, стало быть, не вернулся, но
мы успели почать бутылку «Твиши». Более того. Пусть
читатель попытается представить руку Больного, я имею в виду
пишущую руку, дающую и отбирающую одним и тем же неуловимым
жестом, руку, нашаривающую в темноте того, кто в это же самое
мгновенье оказывается добычей чужой истории — если он увидит ее,
что ж, он, быть может, догадается и о большем, быть может,
примет к сведению еще кое-что. Возможно, он увидит и меня,
читающего эти страницы, загнанного в тупик невозможностью
поделиться ими сполна, ибо в обмен на такое желание он требует
не меньшего, чем отказ от искомого нами всеми конца. Вот
почему, пока я читал, времени не было, оно исчезло вместе со
мной.
В 1915-м Х. призывают на военную службу — глаза Больного с
сожалением смотрели на этикетку, поверх этикетки и сквозь нее.
Представь себе. Медицинская комиссия обнаруживает у него
неврастению или что-то в этом роде, может быть, неизвестную болезнь
сердца. Он не годен к строевой службе. Молодой человек,
подающий блестящие надежды, оказывается ни с того ни с сего на
грани помешательства. (Я не собирался подвергать экспертизе
столь резкий скачок от сердечной недостаточности к
расстройству рассудка, тем более, что лучше кого-либо другого знал о
непростых отношениях Больного с подобного рода комиссиями;
если кто-то хочет опоздать на поезд, пусть опаздывает, но мне
не улыбалось проводить ночь в кресле.) Однако идет война.
Воинскую повинность Х. будет отбывать в должности цензора. В
его обязанности входит перлюстрация писем с фронта и рассылка
так называемых солдатских приветов. (Один из таких
«приветов» он пошлет мэтру. Германия, Германия превыше всего. В
результате — приглашение на обед и поддержка. Когда мэтра
спрашивают об успехах Х. на предмет продвижения последнего «по
философско-административной» линии, он вынужден отвечать, что
тот так занят по военной части, что редко показывается на
кафедре.) Чем он так занят?
Я был занят поиском сигарет. Может быть — в самом деле, почему бы и
нет? — его находит одна из тех безумных открыток, бог знает
где плутавшая все эти годы, например: «Турин недалеко, в
данный момент вы не связаны никакими профессиональными
обязанностями. Раздобудем стаканчик Велтинера.
Официальная форма одежды — нижнее белье». Или: «Эту головоломку,
профессор, надлежит интерпретировать вам». Как поступает
Х.? Какого сочинения? — спросил я. Последствия могут быть
невероятными, они могут быть просто ужасными. Он торопливо
взглянул на часы. И, уже в дверях: и потом, эта сомнительная игра
с даром, это недаром перечеркнутое андреевским крестом
«бытие». Так одалживают и вводят в задолженность, в долг и вину.
Так присваивают себе чужое. В каком году? — но я уже кричал
в черный провал лестничного пролета.
Когда? Где? На мой взгляд, он напрасно сводил счеты с Х., подобная
манера мало того что вышла из моды (он лишь затрагивал
языковую проблему, проблему сопротивления и безрезервных боев),
но, главное, наносила вред тому Принцу Фогельфрай, которого он
не без изящества выводил в примечаниях на рандеву с Лу.
Фогельфрау и Фогельфрай. Они мне нравились все больше и больше,
гораздо больше всего остального.
Была ли его статья «философской» в точном смысле, смысле, которому в
моем случае не могут не сопротивляться кавычки? Она
заканчивалась буквально ничем, он думал, что открытый финал или то,
что он понимал под «открытым финалом», оставляет ему самому
шанс приблизиться под прикрытием темноты к тому, что он
хотел сделать невидимым для других, скрыть, или отложить на
потом, но из Москвы поступали слухи один нелепее другого, и
вскоре стало ясно, что финал может быть только одним. Это уже
не имело значения. Я был занят переводом пифагорейского цикла
Сусанны Хау. В эти дни кто-то поджег исторический
факультет, на ум приходила невеселая параллель, вместе с историческим
факультетом горел философский, занимавший последние этажи
того же здания. Фамилия декана вдруг стала короткой, не
такой, как в далеком прошлом, когда мы срывались к нему с чужих
лекций. По городу гарцевали казаки. Стук копыт вызывал род
зубной боли, я подумал о том, как, должно быть, мучился
раковой опухолью Фрейд, курильщик щегольских дорогих сигар,
переводивший историю мопса Марии Бонапарт на немецкий: надо было
выбираться из Вены.
В 1908 году состоялось заседание психоаналитического общества. Поль
Федерн говорил, что Фриц так близко подходит к методу
свободных ассоциаций, что остается лишь искать, в чем, собственно,
его отличие от психоанализа. Фрейд ответил, что Фриц не
смог открыть механизмы вытеснения и инфантильной фиксации;
однако уровень интроспекции, им достигнутый, никем, кроме него,
не был и вряд ли будет когда-нибудь достигнут. В сентябре
1911 года в обществе своего любовника Пола Бьера
пятидесятилетняя Андреас-Саломэ посещает Психоаналитический конгресс в
Веймаре. Карл Абрахам рекомендует ее учителю на основе
берлинского знакомства. Она посещает знаменитые «среды», ее
любовником становится Виктор Тауск, честолюбивый молодой человек,
покончивший собой в 1919 году тщательно продуманным способом:
завязав петлю вокруг шеи, а потом выстрелив в голову. Фрейд
посвятил ему скорбный некролог, написав в то же время в
письме Лу: «Уже давно я считал его бесполезным, и он мог
представлять угрозу в будущем»; мэтр шлет ей цветы и провожает до
отеля после своих лекций. Единственный мост, который
связывал его, Фрейда, с ним, была Андреас-Саломэ. (Так он говорил,
однако оставался еще Бинсвангер, пользовавший впавшего в
паралич; однажды он предложил Фрейду проанализировать «казус»
своего подопечного, тот отказался, скривившись, как от
невыносимой зубной боли, и позже отговаривал Цвейга писать книгу о
нем; он помнил, что сказал о сне и об ответственности за
сны Фриц.) По ту сторону принципа наслаждения. Он не
затруднялся в выражении своих чувств. Последнюю свою лекцию он читал
пустому месту, на котором раньше сидела Лу.
<...> Я задыхался, я сказал, чтобы она перестала, наконец,
употреблять этот профессиональный «жаргон подлинности», иначе я
положу трубку, меня от него мутит, мыловарня, а из трубы валит
абсолютный дух. Возможно, это какой-то детский рефлекс,
однажды, лет в шестнадцать, я выскочил из троллейбуса на Мориса
Тереза, очертя голову спасаясь от их лающей речи, там была
гостиница и всегда тьма иностранцев из дружественных нам стран
(по крайней мере, в те времена); карательное кино продолжает
крутится в подкорке, отравляя способности к языкам. Святой
лес двинулся на нас по ТВ; Голливуд — это лоботомия. Их сила
в том, что они подменяют воспоминания, как, впрочем, и
книги. А позвонила она ноль три, скорая компьютерная помощь,
приятель, отбыв в отпуск, оставил им с мужем машинерию заодно с
квартирой, и фрагмент текста исчез — частично — с экрана.
Это ее раздражало, текст ей нужен был весь. Но программа
оказалась чужой, она его не выделяла, мы потыкались пальцем в
небо, к тому же я устал бегать от телефона к клавиатуре, я
перенес свой notebook поближе к окну, надо пользоваться, пока
светло. Слово за слово, и я проговорился, хотя не собирался,
что перевожу эссе Нанси о прогрессивном параличе, в том
смысле, что после него нельзя читать другие философские книги,
просто не выносишь их ет цетера. Вот видишь, все приходит
всегда слишком рано, а потом — поздно, но обязательно — через
десятые руки. Перевод. И как стоял в очереди в Доме Книги в
десять утра (счастливый случай: я сдал смену и не торопился
домой), страшась, что не достанется экземпляра именно мне,
ведь именно мне эти два тома были нужны до зарезу, а спроси
зачем, не ответил бы не только тогда, очередь занимала уже
весь первый этаж, змеиный хвост, захлестывающий петлей, но
никакого чувства голода, тридцать рублей, сумасшедшие по тем
временам деньги. <...> Итак, профессиональный жаргон загоняет в
угол, и не только присягающего такой-то дисциплине на
верность. Он навязывает себя, под видом «себя» протаскивая всю
систему ценностей, на каковой зиждется кафедра, ты начинаешь
отбиваться, юлить. Он был первым, за исключением, может быть,
Киркегора, кто заговорил от своего имени и на своем языке.
Кстати, что ты думаешь о его стихах? Престиж, имя. Сделать
себе имя: чистый престиж. Вот почему нужно сжигать стихи, а
если не стихи, то что? — вот почему нужно сжигать. И потом,
имя делается в кругу: круговая языковая порука, это семейный
вопрос, вопрос наследования. Всегда найдется мама,
переводящая стрелку, мама-стрелочник, эволюционный скачок от
собирательства и охоты к землевладению, к скотоводству. Пометить
территорию и надеть шкуру. Десяток имен, два десятка рук,
тасующих крап. колоду. Горизонтальный и вертикальный инцест за
одним спиритическим столом, за одним сеансом. В изголовье, как
за портьерой, невидимый миру д-р. Но можно ведь играть в
бридж, в преферанс, в покер, а можно — в секу или в очко. Или
— в дурака. Дурак, само собой, подкидной. А в случае Рабле и
того смешнее, переводной. Почему же тогда в языке Бахтина
нет ничего дурацкого, напротив, он абсолютно вменяем (в
смысле вины — тоже). В очко в высшем обществе не играют (разве
что в клубе самоубийц), потому что ну какая же это игра, нет
никакой возможности продемонстрировать возможности, скорее уж
рулетка. Определенная лексика как пароль, но до всякой
лексики, даже до всяких манер (не геометр да не войдет): что?
Это всего лишь фрагменты. Так или иначе, но наш с Больновым
эксцентричный псевдо-треугольник показался мне странно напоминающим
тот, любовный. Что-то в нем было аристократически-немощное,
что-то от увядающей олигархической веточки, подобранной в
осеннем саду у скульпурной ночи — это-то и гипнотизировало ее
генеалогию, тоже вполне демисезонную, вопреки всем моим
бессознательным вето. Кровь стыла, но не в жилах, а глубже, там,
откуда ей положено ежемесячно извергаться, и как-то раз
застыла совсем. В вазе поселился хрестоматийный букетик сухих
фиалок. Позже случались истории и с другими. Мы же просто
однажды утром пошли пить кофе втроем под крышу «Европейской».
Со швейцарами, контролерами в транспорте и тайной полицией он
разговаривал, как и положено вымышленному европейцу,
по-французски, это немедленно распахивало перед ним гостеприимные
двери странноприимных домов. Она бесстрашно проходила
кордон, с отвратительным лязгом открывалась дверь в отделение,
полосатые халаты обступали нас с разных сторон, принося вместе
с собой прогорклый отвратительный запах. После того, как она
перебралась в Канаду к родственникам, вот когда мы стали
писать письма, одновременно подозревая друг друга в
сознательном плагиате: сквозь обращения и интонационные ритурнели
проступало отсутствие одного и того же — женского — лица. Потом
все как-то вдруг провалилось, исчезло, у меня в памяти
сохранился лишь жест, каким он раздевает от фольги горло бутылки
в больничном саду. Вплоть до случайной встречи, спустя годы
и годы, в июне, на набережной Фонтанки: тогда был коньяк и
зацепившееся за привидевшуюся дверцу такси привидевшееся
платье той, чье имя для нас обоих все еще оставалось табу.
История сохранила память о, по меньшей мере, двух попытках, двух
совершенно бредовых проектах его излечения. Некто Юлиус
Лангбен, так называемый «der Rembrandtdeutsche», автор анонимно
изданной книги о Рембрандте, этой библии движения, вознамерился
спасти «прометеевскую душу» и наставить ее на путь
истинный; план вкратце сводился к следующему: внушить ему, что он
принц, отвезти его в Дрезден и создать вокруг него подобие
королевского двора, где самому Юлиусу отводилась роль
«камергера» и «интенданта» (роль душеприказчицы, само собой,
оставалась за Лизхен), на самом деле — психиатра-инкогнито.
Удивительно, что вся затея была похерена лишь благодаря решительному
вмешательству Овербека. Аналогичный абсурд почти
одновременно возник в голове Альфреда Шулера, мюнхенского «космика» и
«мистагога», близкого к кружку Стефана Георга (позднее его
лекции почтит своим вниманием фюрер). Речь шла о посещении
больного и исполнении в его присутствии корибантского танца,
что, по мнению самого танцовщика, должно было немедленно
привести к просветлению. На этот раз затея сорвалась за
неимением суммы, необходимой для приобретения реквизита и декораций.
Никто не решался попытать счастья гипнозом или методом
свободных ассоциаций. Как парализованный будет ассоциировать?
Этот вопрос выпал из горизонта Больного. Ганс Ольде делал
карандашные наброски, камин украшала громадная, в готическом
стиле, литера N, обведенная — не без безвкусного намека —
окружностью. Макс Клингер отлил голову Фрица, длинная узловатая
шея, точно вырванная из бюста каким-то вихрем и повисшая в
пустоте. Но я, кажется, уже об этом писал. По утрам с нее
смахивают пыль влажной тряпкой.
Торопиться некуда, но нужны факты (мир, в конце концов, это
совокупность фактов). П. Рэ посещает Фрица в Генуе в феврале. 29
марта Фриц отплывает на парусном торговом судне из Генуи в
Мессину, где остается до 20 апреля. После этого, по приглашению
М. фон Мейзенбух и Рэ, приезжает в Рим, где знакомится с Лу
фон Саломэ, дочерью петербургского генерала. Фриц и Рэ,
влюбленные в Лу, решают втроем изучать естественные науки; отказ
Лу на предложение Фрица выйти за него замуж. Путешествие с
Рэ, Лу и ее матерью в Орту. С 8 по 13 мая посещает в Базеле
Овербека. 13 мая снова с Лу и Рэ в Люцерне (сохранилась
общая фотография). Новое (снова отклоненное) предложение Лу о
браке. Посещение Трибшена. С 18 мая в Наумбурге. Пишет
стихотворный цикл «Идиллии из Мессины» и дорабатывает «Веселую
науку». С 25 июня по 27 августа в Таутенбурге. Знакомство Лу фон
Саломэ с Элизабет; ужас сестры перед «совершенной
аморальностью» подруги брата. С этого момента начинается мучительное
плетение интриг с целью опорочить Лу в глазах брата: она-де
связана с Рэ, она-де издевается над ним и выставляет его в
смешном свете и т.д. — все это сказывается на нем в скором
времени пугающе-серьезным образом: вплоть до мыслей о
самоубийстве и прямого разрыва как с Рэ и Лу, так и с матерью и
сестрой. Вот как будут выглядеть их отношения в оценке Лу из
ретроспективы 1913 г.: «Поскольку жестокие люди являются всегда
и мазохистами, целое связано с определенного рода
бисексуальностью. И в этом сокрыт глубокий смысл. Первый, с кем я в
жизни обсуждала эту тему, был Нитче (этот садомазохист в
отношении самого себя). И я знаю, что после этого мы не решались
больше видеться друг с другом». Позднее она будет
датировать «точку безумия», или, лучше сказать, начало его безумия,
1881 годом, то есть годом их платонического романа. Пещера.
Чему, возможно, бессознательно содействовала магия числа. Д-р
должен был указать ей на это обстоятельство. С 7 сентября
по 15 ноября в Лейпциге. Последняя встреча с Лу и Рэ. Конец
года в Раппало. Разрыв письменных отношений с матерью и
сестрой. Резкое ухудшение здоровья. «Этот последний кусок жизни
был самым черствым из всех, которые до сих пор мне
приходилось разжевывать, и все еще не исключено, что я подавлюсь им.
Оскорбительные и мучительные воспоминания этого лета
преследовали меня как бред... В них невыносим разлад противоположных
аффектов, до которого я еще не созрел... Если мне не
удастся открыть фокус алхимика, чтобы обратить и эту грязь в
золото, то мне конец...» (Овербеку, на Рождество). Рэ и Лу живут
вместе в Берлине «как брат с сестрой». Расстаются через три
года. Внезапно она выходит замуж за Фреда Андреаса,
сорокалетнего знатока восточных языков. В мае 1897 года встречается
с Рильке. Fast todliche Vogel der Seele. Ей было наплевать,
есть ли у мужчины другие связи. Одно из писем оставленного
ею позднее Рене полно тоски, столь мне знакомой: «ты не
имеешь представления о том, какими длинными могут быть дни в
Петербурге...». В 1901 г., как раз тогда, когда она пробегает
глазами эту фразу, Пауль Рэ погибает во время прогулки в
горах.
Все это, разумеется, не могло не прийти мне в голову, когда я читал.
На месте Больного (но где теперь его место?) я бы
сосредоточился именно на такой последовательности, она и сейчас
кажется мне более правдоподобной, нежели дикая, бредовая затея с
открыткой и безумием Х. Слава богу, она осталась на дне
зеленой бутылки с этикеткой «Твиши». Лексикон приказал долго
жить нам обоим. Я пишу это на всякий случай, в слепой надежде,
что он не будет пожарным. Статью, за исключением примечаний,
шедших по ватерлинии каждой страницы, следует, мне кажется,
сохранить: если это и не было последней волей Больного, он
уже не властен над тем, что есть. Нет никакой воли, есть
только пунктуации воли, которые постоянно увеличивают или
теряют свою власть. Стоит осень, которую он так любил. Лестничная
площадка пустеет, я не знаю, куда они исчезают, это похоже
на стертую клавиатуру, где все латинские литеры заменили
кириллицей. С полки берется любая книга, метод, который не
следует путать с методом домино (я применяю его в другом месте).
Последний этаж позволяет мне экспериментировать. Я достал
ключ от чердака и разобрал выход на крышу — остается ждать,
когда позвонят и закажут статью о братьях Монгольфьери, об их
воздушных шарах. Son dio, ho fatto questa caricatura.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

