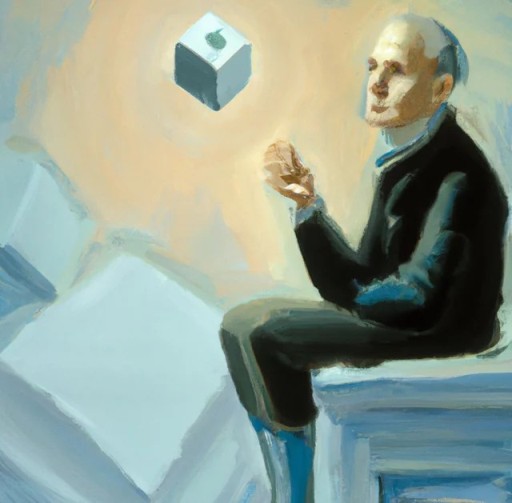Синтез пространства телом
Эссе
Объект, пространство, по-(не)видимому время и Иммануил Кант.
Уже в начале ставлю читателя в неудобное положение, искажая культурные смыслы пространства. Хотела понять, как меняется пространство, в зависимости от того, что мы туда помещаем. Себя, предмет, мир.
Тезисно. «Пространство — это форма, а форма не действует. Отдельные части пространства синтезируются душой, они-то и имеют значение». Георг Зиммель.
Пространство противопоставляет себя нам, обрамляя и подчеркивая материал, который мог быть создан нашими руками.
Кант определяет пространство как «возможность быть вместе» (Г.Зиммель, 2009: 545). Место, в котором можно теряться, находиться, пребывать. Обещание смутной возможности. Ложный семантический свет? Приносимые и ускользаемые смыслы.
Чем больше всматриваешься, тем материальнее становится пространство, образующее многие мерности. Пространство подвижно, взгляд статичен. Стиль пространства оживлен, подвижен, мобилен, энергичен. Подлинные пространства, не испорченные нашим пребыванием (оторопь пространства), редки и обрести их с помощью желанья (рутинного канала) не представляется возможным.
«Правильное использование пространства» — это осознание того, что мы еще не сказали, и как наши руки могут сделать так, чтобы этого не произошло.
В психологии внутреннее пространство рассматривается в качестве синонима понятия «внутренний (личностный) мир», или индивидуального «Я», формы существования внутренних образов (преимущественно зрительных, но включающих в себя моторные, тактильно-кинестетические и аудиальные составляющие). Во внутреннюю зону входят личностные диспозиции, ценности и социальные установки личности.
«... пространство — это не что иное, как деятельность души, способ, которым обладают люди. Люди объединяют в единой интуиции сенсорные аффекты, которые сами по себе не обладают некоторой силой" (Зиммель 1986 [1939], с.645).
Мои взаимоотношения с пространством
Пространство становится интерпретируемым[1] в ситуации потери обычных ориентиров, когда мы сталкиваемся с пространственными искажениями смысла, когда открываются незнакомые, странные или чужие пространства[2].
Как это происходит в кинетическом или\и минималистском искусстве. По мнению Де Серто (2000, стр.121), места — это «запутанные символы в телесной боли или удовольствии».
Почему о пространстве сейчас? — Потому, что живем в нем, формируем его, создаемся им. Очевидно возрождение интереса к пространству, которым сменяется многолетний интерес ко времени (Ямпольский, Изображение; 386).
Взаимоотношения с пространством? – Скажу сразу, они сложные. С трудом обживаю незнакомое. Вначале хожу «по дощечке». В новой квартире занимала совсем мало места, пытаясь приспосабливаться. Стараясь ничего не трогать. В родительском доме у меня была комната. Только её я чувствовала своей. Хотя мне очень нравилась веранда. Но в нее забиралась только тогда, когда оставалась одна. Сирень, бьющая ночью в стекла веранды, исполосованная мелкими окошечками, становилась моей. Как океан, в котором живу, и ветер, вечер…
Позднее, когда в студенческие годы снимала комнату у старухи, бывшей хлеборезкой в войну, моим пространством оставались только лежанка и стул рядом с ней. Окно кельи заставлялись громадными фикусами и алоэ. Все было чужим. Брезгливо относилась к чужой посуде. Даже к тяжелой старинной мебели, стульям, с которыми чувствовалась какая-то родственность, поскольку они возвышались над временем. Остальное оставалось неприкосновенным. Мой кусочек пространства поразительно мал и скукожен[3]. Хотя двери комнат выходили в громадный зал с плитами и кухонными столами. Можно было танцевать. Ночами тихонько скользила по нему.
Любовь к зонированию «мое – чужое», вероятно, попытка противостоять хаосу чужого. Зоны автоматически навязывают гарантию и детерминацию. Негативно-наглядная изоляция тотальна и абсолютно надежна. Связь, контакт, позитивны, но виртуальны, избирательны, подвержены сбоям[4]. Иллюзорны. «Избирательность векторна, а отделенность (отграниченность, изолированность) – зональна. Неопределенность позиции чужака как наблюдателя (направление удаления неопределенно) во многом обусловливает и характер его свободы, отмеченной объективностью, абстрактностью, безличностью»[5].
Первое мое собственное жилье на Ваське поражало пустотой. Паркетный дубовый пол, большие окна, широкие подоконники. Это было мое[6]. Мое именно пустотой. Когда стали появляться вещи: диван, шкаф, кресла, нелепые для этого великолепного пространства. Казалось, я им дышала. Как на пустынном берегу моря перед рассветом. А вещи его съедали.
Последнее мое пристанище загромождено скарбом (практически, «скорбями»), книгами. Пытаюсь освободить, выторговать себе пространство. Оно не подчиняется, зарастает растениями, бумагами, тканями. Старость меня атакует. Тина в пруду делает меньше неба.
«Пространство, мое пространство, это, прежде всего, мое тело, это движущееся пересечение, с одной стороны, того, что касается, проникает, угрожает или удовлетворяет мое тело, с другой стороны, всех других тел» Анри Лефевр.
Помню, как мама, в болезни уже, избавлялась от вещей[7], оставляя необходимое и … случайное.
Я знаю, что небо и есть птица…
Предметы в пространстве
Двадцатый и нынешний век — время тотальной перекодировки пространства, маркированного как «искусство». Когда смотрю на арт-объекты кинетического искусства, мобили, хочется их оживить. Анимировать. Одушевить. Вдох – выдох. Придать им несколько точек – центров движения. Показать многообразие возможностей. Ресурс. Физическое присутствие, материальность и предметность. Когда их разглядываю, беру в руки, хочется двигаться вместе с ними.
Танцевать? – Наверное. Ведь они, как и я, связаны местом прикрепляемости. Я – с землей гравитацией. Они – с небом. Тем, что выше… Над нами.
Обычно мобили абстрактны, не фигуративны. «Минималистские художники в модернистской живописи и скульптуре устраняют антропоморфизм», — объясняет Джадд в эссе «Специфические объекты», — «Материал никогда не имеет собственного движения. Балка дает направление, кусок железа движется вслед; вместе они образуют натуралистический и антропоморфный образ»[8]. Минималисты, наделяя материал присутствием, исключают антропоморфизм в простых геометрических фигурах, сводят взаимодействие между зрителем и произведением искусства к отношению тела и присутствующего объекта. Выставляя свои работы, они прикручивают их к стене или прислоняют, просто ставят их на пол, десакрализируя произведение искусства. Делают частью обыденности?
По мнению Ж. Диди-Юбермана, простые объемные геометрические фигуры ничего не представляют, свидетельствуют лишь о себе, лишены локализации, они уходят в бесконечность временности и в бесконечность опыта. Эти объекты свободны от «игры значений»[9]. Зритель может придать им смысл, но при этом всегда будет ощущать нехватку, неполноту, утрату, конституировать ощущение предела. В минимализме, по его мнению, воплощена идея о том, что произведения искусства являются отсутствующими телами, отсрочкой присутствия, временными узлами, смесью прошлого и настоящего: «Перед нами снова дистанция — дистанция как шок. Дистанция как способность поразить, затронуть нас» [16, с. 137][10]. Это «дистанция отложенного контакта».
Дают ли предметы свободу пространству? Или новый взгляд на него? Жалеют ли о неисполнимом? Связывают и несочетаемое?
Предметы в пространстве (арт-объекты, в том числе) аккумулированы движением в себе. Попытками остановить движение. Воплотить его. Сделать зримым. Сколько в пространстве свернутого, сконцентрированного движения! Мечтаний о полете, овладении им. Легкость и подвижность. Сеть на волне.
Задержка дыхания: «Дыхательная способность является одной из основных физических способностей, которая способствует социальной интеграции людей и является важным механизмом для непрерывного процесса формирования эмоций у людей в социальном контексте». (Лайон, 1997: 97)[11]
Могу ли увидеть кинестетические скульптуры как жесты?
В «Косвенном языке и голосах безмолвия» Мерло-Понти утверждает, что живопись и скульптура должны рассматриваться как выразительные жесты, «рука повсюду распространяет свой стиль, неотделимый от жеста»[12]. Каждый художественный жест раскрывает смысл, благодаря органическому единству мира и тела, обрекающего нас на смысл[13]. Даже геометрическая абстракция не избежит значения: «Ведь строгие, навязчивые геометрические формы и плоскости... еще хранят аромат жизни, даже если это жизнь постыдная и безнадежная. Картина… всегда о чем-то говорит»[14].
Человек – ризома. Не видны его сцепления с другим – глубоко, незаметно, через многих других. Живые переплетения. Врастания. Впадения. Слияния. Превращения. Обращения. Блики света на морской поверхности. Актуализация нашей «кинестетической вовлеченности в вещи». А. Джелл определяет произведения искусства в перформативных терминах как системы действий, направленных на изменение мира, а не на дешифровку символических высказываний о нем. Сам объект искусства способен действовать, и действовать намеренно. Эквиваленты личностей, в частности, социальных агентов.
Как понять пространство?
– Поместить в него предмет. Вещь. Свойство. Способ представлять пространство – его заполнение (Подорога В. Nature Morte; 28). Большой художник наделен возможностью «быть окликнутым Бытием» (М. Хайдеггер). Пространство мыслит нами.
Связь между социальной дистанцией и человеческими эмоциями носит пространственно-временной характер и зависит от ограничений, накладываемых пространством и временем[15]. Гуманитаристика, ограничившись анализом значений, связала себя условием дистанции, потому что «значение, вероятно, никогда не возникает, не производя эффектов дистанции» [Гумбрехт, с. 137]. Любой самоанализ предполагает дистанцию, которая может восприниматься как утрата. «Дистанцию» правомерно включить в лексикон морали (Р. Смит).
Наблюдающиеся тенденции: всё более тесное слияние в изобразительном искусстве пространства и времени, соответственно, пространства и движения. В античности и средние века пространство произведения искусства явно оторвано от времени. Интерес к динамике, темпу, становлению, временной многомерности событий обнаруживается в живописи нового времени. Теснее сплетаются в произведении искусства пространства и предметы.
Самоограничение и сдержанность – практически буквальное значение греческого слова ἐποχή («задержка, остановка, удерживание, самообладание») – того, что удерживает себя от проявления, позволяя высказаться другому. Понятие «эпоха» принципиально временное, хронологическое, объясняющее происхождение истории, выступающей в качестве «резервуара» целого события любой длительности. «Каждый язык, однако, через уподобление с камнем связывается с определенным «местом». Греческий язык – «комья глины в ладонях моря», армянская речь – «речь голодающих кирпичей», в Париже поэту слышится «язык булыжника» и т. д. Слово обладает такой силой позитивности, что определяет присутствие. Через связь с камнем речь стремится обрести или создать место» (Ямпольский М. Демон.; 123).
Пространство определяется вещью тем явственнее, чем она сакральнее. Любая вещь, считает В. Топоров, сакральна, если она не потеряла связь с целым Космоса, причастна к нему. Отсюда начинается идея собирания пространства, ведущая в теме его обживания и освоения. По теории Эрвина Панофского, пространство в античном искусстве воспринималось как промежуток между телами. В средние века меняется философское мировоззрение и, соответственно, искусство. Мир понимается как континуум (сплошной, непрерывный), но все еще неизмеримый и нерациональный. В искусстве это понимание проявляется единством фигуры и фона, плоскостности в миниатюрах и фресках.
Наши существительные – имена, которые мы присваиваем другим телам – видимым и невидимым. Не служат ли все эти имена лишь одной цели – избавить наше собственное тело от смешения с его окружением, с той средой, в которую оно погружено и от которой стремится дистанцироваться?[16]
Интерпретация пространства
Искусство и инструменты его восприятия изготавливаются в одной мастерской. Клиффорд Гирц
Каждое произведение искусства – ретроактивный ответ на конкретную ситуацию, художественные категории и прошлые произведения искусства, чья идентичность трансформируется благодаря перформативной оценочной интерпретации, принятой и воплощенной в новом произведении искусства[17]. Тип и характер восприятия зависит от тех «форм чувствительности», в которых воспитан человек. Движение связано с чувствами, поэтому можно утверждать: «Именно движения запускают сенсорную активность, которую сознание, в свою очередь, воспринимает как чувства» (Танген, 2004: 21)[18].
Интерпретация произведений искусства – своего рода диалог с ними[19]. Однако, как и в реальных разговорах, этот диалог не направлен на раскрытие намерений автора. Разговоры следуют условностям, нормам и ограничениям. Конкретная ситуация меняет нормы, поскольку взаимодействия говорящих прагматически влияют на контекст (и на устоявшиеся значения, вытекающие из прошлых оценочных интерпретаций). Вёльфлин высказывает мысль, разделяемую многими мыслителями ХХ века (от концепции доминанты у Ухтомского до теории дискурса у Фуко): «верно, что мы видим только то, что ищем, но, с другой стороны, мы ищем только то, что можем видеть». Онтологическая идентичность произведений искусства диалоговая, поскольку не сводится к заявлениям художников, но трансформируется через оценочные и исполнительские интерпретации культуры.
«Интерпретация всегда имеет свой целью действие», — пишет М. Ямпольский (Изображение; 37). Искусство производит громадные интерпретационные машины, замещающие упрощающий механизм действия. Эти стимулирующие действие смыслы определяют наше поведение и развитие иначе, чем наследственность, ДНК, геном (Изображение; 36). Художественное пространство субъективно детерминировано, что обусловливает его уникальность и своеобразие.
Для Аби Варбурга суть интерпретации – возможность взаимодействия с материалом со стороны художника, вся деятельность которого – система смыслопорождающих жестов (С. Ванеян; [20]). Своеобразие подхода Мерло-Понти связано с установлением неразрывной связи восприятия пространства с видением и движением, то есть с человеческим телом. «Художник преобразует мир в живопись, отдавая ему взамен свое тело. Чтобы понять эти транссубстантивации, нужно восстановить действующее и действительное тело – не кусок пространства, не пучок функций, а переплетение видения и движения[21]». Это суть творческих актов, создающих не только формы, но и значения. Причем именно в акте указания, особенно визуального (строго говоря, существует лишь то, что можно увидеть, а увидеть можно лишь то, на что указано – собственным взглядом, который именно брошен и в котором сияет мгновение ока). Для меня так, несомненно. Поэтому пытаюсь копировать, воспроизводить. Рисование или письмо, как мышечное действие, танец, фантастически фокусируют беспокойство автора. Ипохондрическое расширение, превращающее любой внешний объект в органическое движение, воплощающее и внутреннее[22]. Пространство и его «наполнение» «проникают», взаимообусловливают и взаимоопределяют друг друга.
Отмечу момент и аспект письма как жеста, движения, экспрессивной и телесной динамики (варбургианская идея, воспроизводимая Гомбрихом), эквивалентна в живописи не только процессу написания картины как наложения мазков (это важно, отражается темперамент). Эквивалентом оказывается уровень собственно изобразительный – та самая физиогномика – картина как эмоционально и интеллектуально интригующее зрелище, как истинный и буквальный spectaculum, постановка сродни театральной (тоже идея Варбурга). Это роднит, по мнению Гомбриха, живопись с литературой и легитимирует или хотя бы оправдывает поиски текстов (но не источников), объясняющих содержание изображения не как простой иллюстрации или вдохновленной литературой поэзии, а именно как программ, то есть комплексов значений, имеющих характер ценностных моментов смысла (значение «для», а не «чего») (С. Ванеян).
Интерпретация предполагает наличие намерения. Мы приписываем интенцию любому произведению искусства. Особая интенциональность вкладывается нами в непонятное. Мы хотим стать картинкой, чтобы быть «прочитанными» и интерпретированными нужным нам образом, потому что мы живем в мире обмана и обмена. В нем укоренено изображение.
Автор преуспевает, только будучи самим собой. …В обыденной жизни искренность зависит от воли. … “быть искренним” на языке искусства означает “быть психологом и обладать даром воплощения мыслей и чувств”. Хаксли О. Искренность в искусстве. «Иностранная литература» 2004, №1
Коллективное тело
Ханс Белтинг определяет тело как «место образов». «Те или иные медиа, в которых образы настигают нас, вписывают себя в наше тело и существенно изменяют наш жизненный опыт»[23]. «Тело – способ, с помощью которого мир становится реальностью»[24].
Телесность понимается как структура, состоящая из трех топосов – природного «тела» индивидуума, тела как индивидуального искусственного конструкта и коллективного тела как социокультурной целостности[25]. Тело открывается как полная экстернализация себя. Любое движение тела сопровождается интенциональностью, которая лежит в основе восприятия. Зритель перцептивно вносит смысл в объект, который он переживает в длящемся настоящем[26]. Это особого рода самосознание, погруженное в вещественность, предметность, взаимодействие, которое обладает прошлым и будущим. Минимализм кинетических мобилей редуцировал (обнажал) эстетический объект, вызывая активизацию саморефлексии в зрителе: взгляд зрителя, почти ничего не получая, отражался от объекта и обращался на самого себя.
«Место – это местопребывание тела, или, иными словами, тело и место – одно и то же. Тело – это «открытое» и «просторное» пространство, лишенное известных нам координат: внешнего и внутреннего, части и целого, функций и целесообразностей. Тело как место не вписано в технически рационализированное пространство, поскольку оно не рационализировано изначально. Нет карты тела. Карта, как и картина, лишает тело его самости и делает фрагментом и моментом, приращивает ему, так сказать, хвост и голову[27].
Тело – место для Ego, его фронтир. «Я» слишком тесно связано с этим местом. Нанси указывает, что Ego всегда произносится. Вне речи, в молчании «я» попросту нет. Но существует танец — коэволюции ритма и танца, взаимосвязанных аспектов мультимодального феномена, характеризуются единством действия и восприятия. Танец М. Вигман, например, борьба и мучение – здесь действовала масса, а не линия – здесь действовала динамика, это была дионисийская экстатическая схватка[28]. Ангажированность указывает на динамический характер эстетического поля или ситуации.
Особенность постмодернистской мысли состоит в отказе от устойчивых представлений о теле и формировании нового образа тела – тела как потока, принципиально неустойчивого и не способного быть зафиксированным. Предполагается, что, когда человек остается наедине со своей физической реальностью, он отрезает символический план телесного, необходимый для преодоления отчуждения тела.
…стремленье запомнить пейзаж, способный
обойтись без меня. И. Бродский
[2] Johann Michel, «L’interprétation et le problème de l’espace», Methodos [En ligne], 20 | 2020, mis en ligne le 18 février 2020, consulté le 04 mars 2022. URL: http://journals.openedition.org/methodos/6651; DOI: https://doi.org/10.4000/methodos.6651
[3] «На самом деле поле восприятия – это, по сути, поле действия», Анри Валлон (1942).
[4] Лишаев С. А. От тела к пространству: данность и возможность в эстетическом опыте. Mixtura verborum' 2010: тело и слово: ежегодник / под общ. ред. С. А. Лишаева. — Самара: Самар. гуманит. акад., 2010. — 236 с. стр.78-101
[5] Баньковская С. Другой как элементарное понятие социальной онтологии // Социологическое обозрение. 2007. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/drugoy-kak-elementarnoe-ponyatie-sotsi... (дата обращения: 14.08.2025).
[6] Распознавание обычного объекта – это, прежде всего, умение им пользоваться. Marc Parmentier, «Espace, mouvement et corps virtuels chez Merleau-Ponty», Methodos [En ligne], 18 | 2018, mis en ligne le 18 janvier 2018, consulté le 07 mars 2022. URL: http://journals.openedition.org/methodos/5014; DOI: https://doi.org/10.4000/methodos.5014
[7] Изменение социального положения влияет на пространственность собственного тела (социально пониженный статус, переживающий депрессивный эпизод...) и на порядок вещей; потрясение собственного тела (например, старение, болезни, инвалидность...) изменяет отношение к пространственности вещей (восприятие вещей по-разному в их среде, потеря контроля над вещами...) и на социальный порядок (отношения пар, деловые отношения...).
[8] Judd D. Specific Objects. — URL: http://atc.berkeley.edu/201/ readings/judd-so.pdf (accessed 25 September 2018).
[9] Цырлина Я.Э. Темпоральность и телесность. Феноменологические аспекты минимализма // Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право. — 2018. — № 4. — С. 20-28. ЭО!: 10.15593/регт.^р1/2018.4.02
[10] Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. — СПб.: Наука, 2001. – 263 с. References
[11] Lyon, M. L. (1997) ‘The Material Body, Social Processes and Emotion: Techniques of the Body Revisited’, Body & Societhttps://www.researchgate.net/publication/249686239_The_Material_Body_Social_Processes_and_Emotion_Techniques_of_the_Body'_Revisited
[12] Мерло-Понти М. Знаки. — М.: Искусство, 2001. — 429 с. с. 74
[13] Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. — СПб.: Наука, 1999. — 606 c. с. 17
[14] Мерло-Понти М. Знаки. — М.: Искусство, 2001. — 429 с. с. 63
[15] Liu, S. Social spaces: from Georg Simmel to Erving Goffman. J. Chin. Sociol. 11, 13 (2024). https://doi.org/10.1186/s40711-024-00217-9
[16] Михель Д. В. Жан-Люк Нанси в мире Corpus'a. Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология» – 2006. – № 1 (4) стр.77-87
[17] Bertinetto Alessandro «Improvisation and ontology of art», Rivista di estetica [Online], 73 | 2020, online dal 01 février 2021, consultato il 06 janvier 2023. URL: http://journals.openedition.org/estetica/6686; DOI: https://doi.org/10.4000/estetica.6686
[18]https://www.researchgate.net/publication/258142668_Embedded_Expectations_Embodied_Knowledge_and_the_Movements_That_Connect_A_System_Theoretical_Attempt_to_Explain_the_Use_and_Non-Use_of_Sport_Facilities
[19] Bertinetto Alessandro «Improvisation and ontology of art», Rivista di estetica [Online], 73 | 2020, online dal 01 février 2021, consultato il 06 janvier 2023. URL: http://journals.openedition.org/estetica/6686; DOI: https://doi.org/10.4000/estetica.6686
[20] Ванеян С. Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики. Издательство: Высшая Школа Экономики (ВШЭ) 2015. 330 с.
[21] Морис Мерло-Понти «Феноменология восприятия» (1945) и «Око и дух» (1961):
[22] Valentina Ponzetto, »Georges Didi-Huberman, Ninfa profunda – Essai sur le drapé-tourmente», Studi Francesi [Online], 189 (LXIII | III) | 2019, online dal 01 mars 2020, consultato il 20 juin 2022. URL: http://journals.openedition.org/studifrancesi/21441; DOI: https://doi.org/10.4000/studifrancesi.21441
[23] Hans Belting: Bild-Anthropologie. Entwurfe fur eine Bildwissenschaft. – München: Fink 2001, S. 13.) 6 Вирильо П. Машина зрения. – СПб.: Наука, 2004. С.12
[24] Leder, D. (1992) ‘The Cartesian Corpse and the Lived Body’ in D. Leder (ed.) The Body in Medical Thought and Practice. Dordrecht: Kluwer Academic.
[25] Макаров А. И., Торопова А. А. Отчужденные тела: тракктовка концепта телесности в постмодернизме // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7. Философия. Социология и социальные технологии. 2016. № 4 (34). — С.16-26. (в соавт. Торопова А. А.)
[26] Цырлина Я.Э. Темпоральность и телесность. Феноменологические аспекты минимализма // Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право. — 2018. — № 4. — С. 20-28. ЭО!: 10.15593/регт.^р1/2018.4.02
[27] Михель Д. В. Жан-Люк Нанси в мире Corpus'a. Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология» – 2006. – № 1 (4) стр.77-87
[28] Эпоха пустоты Как люди начали жить без Бога, чем заменили религию и что из всего этого вышло [The Age of Nothing: How We Have Sought to Live Since The Death of God]. Уотсон Питер. Пер. с англ. М. Завалова, Н. Холмогоровой (Серия: религия. история Бога). М.: Эксмо, 2017. – 784 с.; ISBN 978-5-699-97046-9; с. 75
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы