Справедливость
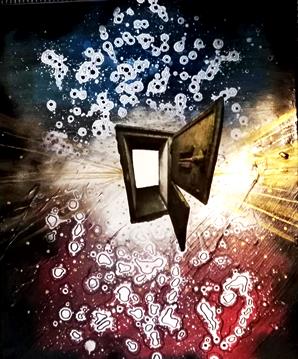
Когда я умирала, страшно не было. Если жизнь не в радость, смерти ждешь как избавления.
В самое последнее мгновение поймала свое отражение в выпуклых, отдающих желтизной очках медсестры: худое помятое лицо, растрёпанные от долгого лежания в кровати редкие седые космы. Горько выдохнула: «Вот и всё...», – сомкнула веки, налившиеся тяжестью.
Под мерный писк больничных приборов моё «я» вылилось из тела неторопливым потоком и поплыло, качаясь на волнах пустоты и меняясь, пока не замерло, обретя новую форму. Внешне я ощущала себя прежней – старой и дряхлой, но если верить, что мы – это и наше тело, то все поменялось. Изношенной оболочки уже не было. Хотя оно давало ещё знать о себе: болела несуществующая спина и чесалось под лопаткой.
В первый момент я разозлилась. Как же так? Опять двадцать пять! Заберите, наконец, это тело, эту жизнь с её воспоминаниями! Заберите все и дайте спокойно помереть! Погрозила кому–то неведомому кулаками и словно очнулась. Вдруг стало неуютно, губы задрожали и словно кто под кожей пополз. В груди расправлял лапки колючий паук страха, одну за одной, готовый напасть и похоронить в своем кромешном шелковом коконе.
«Где я? Умерла?».
Сознание возвращалось постепенно. Я понимала, что вокруг непроглядно темно, до жути тихо и нестерпимо пахнет землей. Под ногами был твердый пол, но я не могла не то что шагнуть, даже пошевелиться – застыла, скованная страхом. Оставалось только отчаянно вслушиваться в тишину, шепча бессвязную молитву.
Может кто услышал и постепенно, как когда глаза привыкают к темноте, из мрака проявились очертания шестиугольной комнаты. убранной в белый атлас, сосборенный на стенах безвкусно. Её стены были обиты безвкусно сосборенным белым атласом. Пространство то расширялось, то сужалось, уходя далеко во мрак, и в нём везде: под ногами, на стенах, на потолке – везде была эта белая глянцевая ткань. Свет, исходивший от неё, становился ярче и ярче. Всё вокруг было таким чужим. Нет, не мне, самой жизни.
Свет понемногу рассеивал страх, но я не решалась пройти вперед и пыталась разглядеть обстановку с места. Вдалеке стояли вроде как два длинных стола, а за ними, сквозь расступающиеся сумерки просматривалось с десяток фигур. То ли люди, то ли манекены.
«Черт! Что же это такое?! – тряслась я, потирая холодные сухие руки. – Где ангелы, где БОГ?!», – негодовала чуть не плача.
«Должно быть, простые смертные не заслуживают крылатых», – тут я выругалась. – «При жизни не заслужила счастья, после смерти – ангелов! И место тебе, курица, в Чистилище», – роптала, закусывая мятые как курага губы.
Свет стал таким ярким, что можно было рассмотреть одежду ближних фигур, настоящую, человеческую, и то, что их очень много. Должно быть тысячи! Да это люди! Словно терракотовые воины, они стояли друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Ровные ряды уходили в бесконечность и тонули во мраке где–то на задворках зала. Живые статуи не шевелились и этим пугали до чертиков. Фантомное тело явно играло не на моей стороне: от страха захотелось в туалет, спина покрылась потом.
«Какого рожна они стоят? Чего замерли, как каменные? Я же слышу – дышат! Живехонькие!».
Раздражение, первый симптом испуга…
– Они вас ждут, – пробудил меня мягкий, мелодичный голос справа.
Я подскочила от неожиданности, даром, что спина больная, ойкнула и вскинула руки, обороняясь. Глупый, бесполезный жест! Как говорится: жила дурочкой, ей и померла.
Рядом стоял мужик, по виду бомж, в каких-то заляпанных лохмотьях, безобразной шапке и дырявых ботинках. Но с таким умиротворенным видом! Глаза светились безмятежностью, обветренные губы разгладились и приподнялись в спокойной полуулыбке, руки свободно свисали вдоль тела. Я, глядя на бурое пятно, размером с тощую грудь, инстинктивно задержала дыхание, а потом, вдохнув, поняла, мужик-то не воняет! Снова упрекнула себя за глупость, опять рассердилась, и даже почудилось, будто давление скакнуло – тупой болью отозвалась голова.
– Вы еще кто?! – голос дребезжал. Внутри я застонала, моля, чтобы все поскорее окончилось. Насовсем!
Он плавно и гибко шагнул ближе (я невольно отступила):
– Ваш провожатый, полагаю, – ответил бомж, ничуть не смутившись, улыбнулся открыто и протянул мне заляпанную кровью руку.
Я осторожно и брезгливо протянула свою, страшась отказать: мало ли что у него на уме? Мужчина бережно обхватил мою кисть обеими ладонями, нежно похлопал внешнюю сторону, кивнул.
– Провожатый? – дошло тогда до меня. – Куда провожатый?
– Сюда, – махнул он на зал и снова улыбнулся. Переднего зуба не хватало, но отчего-то стало спокойнее. Лицо бродяги располагало своей простотой и затаившейся в глазах нежностью. Даже слезы проступили от безмолвной поддержки, которую мужчина передал одним лишь рукопожатием.
– Ммм… – выдавила я и замолчала, доверившись. А какой еще был выход?
Дальше говорил только провожатый. Он не представился, а я позабыла спросить. Это, может, и странно, но в такой ситуации объяснимо.
– Здесь все кого вы когда-либо в жизни встречали, кто отложился в вашей памяти, так или иначе…
Мужчина рассказал, что все они ждут только общения со мной, что здесь их можно наградить или, наоборот, наказать по своему усмотрению. Для этого даже предлагались некоторые приспособления, бесполезные по сути, но привычные. Он проводил меня к длинным деревянным столам, где лежал реквизит, растолковал назначение каждого инструмента. Орудий наказания в списке было намного больше, чем предназначенных для поощрения.
– Людям редко кажется, что они были недостаточно благодарны. Скорее наоборот, – коротко прокомментировал провожатый и махнул рукой:
– Идемте. Пора вершить справедливость.
В первом ряду стоял Марценкевич, которого за последние годы я особенно полюбила, хоть и не встречала ни разу. Ему я подарила цветок. Мои родители – давно почившие, муж и сын – тоже покойные. Я остановилась, рассматривая их, боясь коснуться, словно призраки растают. На глаза навернулись слезы.
Сыночек. Милый… Ведь это после твоей смерти я стала такой вздорной. Когда ты ушел…
– Мама, закрой, – крикнул.
– Куда это тебя опять понесла нелёгкая? – выскочила в коридор.
Улыбнулся устало и вместе с тем игриво.
– С друзьями, – вздохнул, – в паб.
– Опять гулянки ваши! – хмурюсь, зная – ничего тут не поделаешь – вырос мальчик. Не запретишь ничего, бессмысленно. Да и надежный он у меня, умница.
До сих пор вспоминаю с горечью, как он улыбнулся, кивнул и ушел. Помню, вижу, два вихра на затылке (так редко встречающееся явление), черных, как глаза цыганки.
Отпустила, не уберегла.
Можно ли рассказать, что значит похоронить ребенка? Шестимесячного ли или двадцатичетырехлетнего, как в моем случае? Попробуйте отрезать руку и закопать – не поймете и сотой доли тех страданий.
И вот он снова передо мной. Такой, каким запомнился.
Я не трогала сына и даже не дышала. Но не сводила с него глаз, рассматривала жадно, страстно: живой румянец на щеках, не такой как на затертом до дыр фото – настоящий; блестящие энергией серые глаза, что смотрели сквозь меня; каштановые волосы и то, как вздымается дыханием грудь.
Живой…
Добрый мой, милый мальчик. Родной мой.
Живой.
Было столько слов и никакой возможности сказать хоть одно. И только слезы, не то радости, не то горя, прозрачными жемчужинами стекали по щекам и прятались за воротник, неприятно щекоча.
Сыночек…
– Вы можете коснуться его, – подсказал провожатый, – не исчезнет.
Но я не шелохнулась.
– Он ведь не настоящий… – глухо утвердила, всем сердцем желая обратного.
– Это он, – ответил мужчина. – Это он… – Уклончиво.
И я не стала спрашивать дальше. Не нужны были убеждения и доказательства. Я ринулась вперед, обняла своего родного, единственного и любимого ребенка, прижала слабыми руками.
– Мамуля? – ожил он, смыкая вокруг сильные молодые руки. – Ты чего это? Ой-ой, ты меня раздавишь, мам.
И рассмеялся таким сильным, заразительным – живым смехом. Живым, черт побери!
Я прижалась к его груди, вдохнула знакомый, так давно потерянный запах.
– Сыночка, тридцать лет без тебя – это слишком много!
Он замолчал.
Мы долго стояли так, после много говорили, смеялись, шутили. Я посетовала, как сложно мне было без него, он покаянно поджал губы и ответил с жаром:
– Ты не понимаешь!.. Ведь много людей было вокруг! И все молча…
Желваки заходили, глаза блеснули.
Я вспомнила тут звонок милиционера:
– Мария Степановна Василькина?
– Да. А кто это?
– Из милиции вас беспокоят. Павел Даниилович Василькин – ваш сын?
Тонюсенький, высокий звон, где-то под темечком на границе стратосферы.
– Мария Степановна, вы слышите? Ответьте, пожалуйста, Павел Даниилович – ваш сын?
– …Д-да.
Сын сжал мои ладони сильнее, заглянул в глаза:
– Мам, не замирай так… – вздохнул. – Он ведь её за волосы тащил, мам! Прямо по улице! Тащил и пинал, урод!
Глаза мои снова увлажнились, вся промерзла до костей.
– Ужасно, мам. Нельзя такое не замечать… Просто нельзя!
И снова этот долгий, вопрошающий взгляд.
Это же я его воспитала, чего теперь ругать? Да и не на него сержусь! А все же попеняла:
– Она ведь даже показаний против того гада не дала! Испугалась. А ты вот… теперь…
Слова застряли в горле.
Он обнял меня порывисто, крепко.
– Мааам, – протянул и виновато, и игриво, в своем коронном стиле, вроде – «Ну опяяять!». И я рассмеялась, вспоминая наши мелкие ссоры и это его: «Мааам!».
И тут до меня дошло:
– А ведь тот подонок, что… – слова дались с трудом, – что… ножом… моего сына… Он тоже здесь? – спросила провожатого.
– Да, – все также нежно и спокойно ответил он, глядя куда-то в атласный потолок.
Я решительно встала с пола. Сын вскочил, конечно, быстрее, поддержал меня.
– Отведите меня к нему! – скомандовала и поковыляла, неловко переваливаясь с ноги на ногу, но сурово, решительно, стиснув зубы и сощурив слезящиеся глаза. Мимо равнодушных, молчаливых статуй. Смешное, полагаю, зрелище.
А в груди вновь проснулась, поднялась и закипела, булькая зелеными тягучими пузырями, застарелая обида, злость, замешанная на бессилии. Убийственный отвар.
Думались самые разные мысли, жестокие, страшные, пугающие, хотя я их старательно приманивала, голубила и тешилась ими.
– Могу я… его убить? – спросила по дороге, снедаемая злостью. Не уверена, что хотела услышать ответ. Важно было задать вопрос.
Слова прозвучали неожиданно холодно и решительно и все сжалось внутри, обледенело.
– Да, – безмятежно ответил провожатый. Ничто не могло смутить его. – Идемте, покажу чем.
Он вывел меня к двум столам. Они размещались как раз в центре, хотя я видела подобные в начале. От них ряды людей расходились по помещению спиралью, причудливым лабиринтом жизни.
На одном из столов, большом ольховом, лежали несколько красиво упакованных коробочек с подарками, цветы, да еще что-то. Я не запомнила – было не важно. На втором же, громоздились самые разные орудия убийства и пыток: ножи, топоры, капканы, пистолеты всех веков, шила и даже спицы. Черт-те что! Такая нелепица…
Я схватила с края первый попавшийся нож и быстро развернулась. Рукой махнула провожатому, чтоб вел дальше. Тот не отреагировал на мой откровенно хамский, бесстыже-злой жест – просто пошел дальше.
Я не смотрела на людей, мимо которых мы проходили, не следила, куда идем. Предстояла роковая встреча, и я готовилась, собирая в кулак волю и решимость. Внутри мерзко щекотало отвращение.
«Он это заслужил!» – повторяла про себя. – «Проклятый гаденыш убил моего сына!».
А острый нож, зажатый в ладони, придавал мыслям веса, тяжести…
Я хотела подойти и просто ударить подонка острием: слева в живот, ровно под ребро, – как он ударил моего Пашку. И боялась поднять голову, чтобы случайно не встретиться взглядом. Впрочем, не помогло. Я увидела ненавистные светлые локоны, задолго до того, как мы подошли. Реденькие волосенки легко растрепались по лицу, но, под ними на лбу виднелась глубокая морщина, какая-то горестная, нелегкая. У убийцы были серые пронзительные, но не злые глаза. Обычные такие, может немного грустные. И тонкие длинные руки с грубыми рабочими ладонями. Они висели словно плети. Разве такими руками можно убить?
Я посмотрела на свои сморщенные маленькие кулачки, побелевшие костяшки.
– Это ведь не он? – ухватилась за мысль. – Он ведь жив-здоров, попивает чаек с родителями, да баранками закусывает? – спросила нелепо.
– Это он, – уверенно повторил провожатый, а потом добавил, – Его карма, аура, душа… Называйте, как хотите.
Я поджала губы, подняла над головой нож.
– У всего в мире есть свои последствия, – закончил мысль провожатый, – и у того, что здесь происходит – тоже. Ваши действия на нем отразятся. По-своему.
Слабо тряслась неверная рука. Я сжала артритные пальцы и решилась почти…
– Отвернитесь! – взвизгнула истерично, на выдохе, и скривилась от внутренней боли, от страха того, что должна была по своему разумению сделать.
– Не могу, – отвратительно спокойно возразил бомж. – Моя задача смотреть. У справедливости должен быть свидетель.
Я опешила.
– Справедливости? Свидетель?!
А в уме пронеслись слова сына: «Нельзя такое не замечать».
Неправ ты, сынок, каждый второй слепнет в нужный момент, а потом зовет это справедливостью, возмездием, кармой.
– Так я затем здесь? – взвизгнула. – Чтобы восстановить справедливость?!
Всплеснула руками. Задрожал дряблый подбородок – я знаю, как жалко выгляжу, когда готова заплакать – так много слез за жизнь пролито.
– Справедливость?! – завизжала высоко и хриповато. В горле запершило. – Справедливо – когда б мой сын остался жить! А это разве справедливость?
Я потрясла рукой, обводя зал, вдохнула, открыла рот и захлопнула его снова. Что тут скажешь?!
Мужчина склонил голову на бок – на его лице впервые отпечаталось подлинное чувство. Ему было жаль меня. Жаль. Какая гадость!
И все же он сказал, тихо, печально, но отчетливо и безапелляционно:
– Справедливость – это так субъективно.
Это стало последней каплей. Меня повело, ноги подкосились и, сложившись словно марионетка, с отрезанной ниткой, я рухнула на колени и зарыдала.
– Что ты наделал?! – закричала, поднимая снизу лицо к убийце сына. – Что же ты сделал?! Что вы все натворили!!!
Парень ожил и посмотрел прямо на меня – растерянНо, испуганно.
– Ты же убил его! Убил человека! Живого! Моего сына… убил… – прошептала в ужасе, словно только в эту секунду осознала весь смысл произошедшего. – Ты меня убил…
И калейдоскопом перед глазами пролетели все события жизни: веселые, нежные, горькие и радостные, и словно в гадком дегте испачканные серые, стылые, несчастные тридцать последних лет.
– Убил…
Не было сомнений: он знал, кто я, знал, о чем я, – и на лице парня отразилось такое неподдельное, искреннее страдание, такое сожаление о содеянном, что я больше не нашлась, что сказать – упала на четвереньки, положила голову на ладони и, раскачиваясь на коленях и локтях, выливала слезами всю злость и обиду, что накопились за тридцать последних лет. Выплакивала похороненную вместе с сыном часть души, наполняла слезами зияющую дыру в груди. Отпускала то, что не в силах была изменить.
Я не знаю, сколько прошло времени, но когда я встала (парнишка поднял меня), то слез больше не было.
– Я тебя прощаю, – сказала я убийце с таким достоинством, какого никогда не ощущала при жизни. – Я прощаю тебя!
А он лишь поджал губы, скривился готовый заплакать и кивнул. Благодарно. Он-то себя не простил.
«Что ж, должно быть, это справедливо», – подумала я тогда, и в секунду зал опустел.
– Полагаю, моя задача выполнена, – счастливо улыбнулся провожатый, и я от этой улыбки разомлела вся. Почувствовала себя такой наполненной, целой, спокойной, даже помолодевшей.
– Спасибо, – сказала с чувством, и мужчина вспыхнул мириадами искр, оставляя после себя легкий запах озона, свежести, словно после грозы.
Я моргнула. Зал вновь наполнился людьми, незнакомыми мне, чужими. А где-то далеко манило, звало к себе место, откуда все началось.
На постаменте впереди стоял молодой человек с широко распахнутыми глазами. Вытянув вперед руки, он трогал пустоту. Для парня, видимо, свет еще не появился, а у меня было время рассмотреть ведомого.
Невысокий, коротко-остриженный, почти лысый, с острыми чертами лица. Он нехарактерно, как мне кажется, для невысоких ребят такой комплекции, сильно сутулился и весь напоминал странно побледневшего крота.
Я мягко улыбнулась ему, преисполненная спокойствия. Горе отпустило, впервые за долгое время ничто не глодало изнутри. Разве это не повод порадоваться, поделиться умиротворением?
– Где я? – спросил парень, щурясь. Он, очевидно, различил мою фигуру.
Голос у него был низкий, красивый, но какой-то холодный. Должно быть от страха.
Я обернулась и показала рукой его знакомых.
– Здесь все, кого ты когда-либо знал, ждут прощания. Здесь можно восстановить справедливость, которой не было при жизни. Я проведу, расскажу, что знаю. Как тебя звать-то, милок?
Меня охватила неестественная эйфория от происходящего. Словно в наркотическом дурмане. Я чувствовала себя легкой и помолодевшей лет на пятьдесят. Потрясающее чувство.
– Ааа, – хмыкнул парень, ухмыльнулся радостно, прищурился. – Прям все-все?
Он говорил развязно, помогал себе руками, а в глазах таился страх и что-то еще, чего я не могла сразу разгадать. Наверняка, в другое время он был бы неприятен, вызвал волну раздражения, осуждения и даже отвращения. Но не теперь. Сейчас в душе царил мир, и не было нужды впускать в него этого человека. К тому же, я так думала, скоро и у него всё наладится.
А меж тем парень, сложив руки за спиной и ссутулившись, быстро пробежался вдоль стоящих в шеренгу людей.
– Мать! – кивнул. – Папаша!
Хмыкнул.
– С ними можно контактировать, – подсказала я. – Делай, что душа велит.
– Кон-так-ти-ро-вать, – передернул он противно. – Оооо, шеф! – сказал громко, встал и задумался на минутку.
Потом прыснул весело, воровато обернулся, кивнул, что понял мои слова, снова улыбнулся. Гаденько, как крыска. И… плюнул в лицо статному мужчине в классическом костюме.
«Шеф» – очевидно властный мужчина лет пятидесяти с крупным носом и пухлыми губами – мгновенно ожил. На лице отразилось омерзение вперемешку с гневом. Он выпучил глаза, и попытался было схватить парня за грудки, но руки прошли сквозь тело. Мужчина недоуменно сжал и разжал ладонь, отстранился испуганно.
– Даже так? – довольно заржал мой подопечный и отвесил начальнику звонкую пощечину.
Шеф попытался закрыться рукой, но ладонь парня прошла сквозь преграду без сопротивления. Так продолжалось некоторое время. Он плевал, бил, колол неспособного защититься или даже отойти мужчину, и хохотал, как демон. Это доставляло молодчику удовольствие. Странно, право слово.
И тогда я, бессильная отвернуться, ощутила какой-то угол досады, на миг помутивший покой, умиротворение и радость жизни.
Наконец, парню надоело потешаться над начальником, и он двинулся дальше. Я отметила, что он даже немного выпрямился. Это казалось хорошим знаком – значит стало легче на душе. Я подумала мимолетно – какие гадости, должно быть, делал ему начальник – и тут же забыла об этом.
Паренек прошел пару рядов, потом встал и, по-цыплячьи вытянув шею, осмотрел видимые ряды.
–К-к-к, – щелкал при этом языком, словно курей приманивал. Смешной.
Потом он кого-то увидел и вдруг решительно сорвался с места. Я поспешила следом, хотя с трудом поспевала и даже чуть не потеряла мальца из виду, хотя, думаю, это было бы невозможно.
На полпути он щелкнул снова, резко развернулся и пошел назад. Все эти перемещения – хаотичные, дерганные – для меня значили одно: запутался парень, сам не знает, чего хочет. А он меж тем, вполне уверенно вернулся к отцу – помятому мужику в китайской синтетической футболке с вышитым логотипом и черных брюках – и без тени сомнений снял с пояса ремень.
– Ну что, папаша? Поквитаемся? – спросил едко, а затем пнул отца в живот.
Тот, конечно, согнулся пополам и тогда сын ударил сверху. Когда отец оказался на коленях, парень задрал его футболку и принялся хлестать бляшкой ремня по спине. Я наблюдала.
Помню, в тот момент слегка нахмурилась, может вздохнула грустно и как будто даже испугалась немного. «Сколько же в нем ненависти накопилось!», – подумала с жалостью. Той же гадкой жалостью, которой обласкал меня провожатый.
А отец – молчал! Он не пытался защититься и даже не пискнул, когда металлическая пряжка отзвякивала от хребта. Тонкие, обветренные губы посинели от напряжения, по лицу черному от въевшейся пыли, покатился пот, но он молчал. Парнишка старался бить сильнее, выбирал самые уязвимые места, выбился из сил, но не услышал и стона.
«Удивительно!», – подумала я, восхищаясь стойкостью и силой души незнакомого человека.
Когда сын прекратил избиение, отец лишь обессиленно завалился на бок и закрыл глаза. Спина алела от крови. Парень вставил мокрый ремень в штаны и вытер об одежду отца руки.
– Вот и помалкивай дальше! – выплюнул досадливо и зло. Малец ожидал мольбы.
Ему не было стыдно или неловко. А неудача только распалила. Он медленно, с нездоровым блеском в глазах осмотрел несколько ближайших человек, и вдруг лицо исказила такая гримаса, что захотелось отступить на шаг.
– Ух, ты, – медленно и холодно проговорил он и пошел к высокой девушке, попутно пиная всех и каждого в ряду, – и краля здесь…
Где-то внутри приглушенным треском отозвалось предчувствие беды.
– К-к! – щелкнул парень и вот уже перед ним темноволосая девчушка в простой неброской одежде: джинсы, кеды, бадлон*, да какая-то несуразная кофточка поверх. Все дешевое, местами не очень умело зашитое, но чистенькое, аккуратное. Глаза густо подведены, глядят вдаль, и губы вишневые.
Малец встал перед ней и выгнулся дугой, глядя оценивающе, свысока.
– К! – новый щелчок языком.
Тут он, наконец, впервые обернулся ко мне и спросил панибратски, словно его предыдущие действия могли нас сблизить, связать:
– Что душе захочется, говоришь? Всё-всё?
Я кивнула, не видя смысла отвечать.
– Отвернись, – приказал он.
– Я не могу, – ответила спокойно, но где-то далеко вновь уколол страх, – У справедливости должен быть свидетель, – повторила некогда услышанное.
– Даже так, – изогнул он бровь. – А может ты та еще извращенка, а, старушка?
Старушка.
Я взглянула на свои сморщенные руки, словно только сейчас вспомнила, что далеко не молода. Впрочем, так и было – после ухода провожатого я будто скинула лет сорок, но теперь вновь ощутила себя дряхлой.
Он подленько хихикнул и принялся расстегивать штаны.
– Что ж, так даже интереснее…
Треснули нитки дешевенькой кофточки. Девушка не сразу, но закричала, а в зале не раздалось и звука. Она просто открывала рот, как рыба. Лицо перекосило от ужаса, страха, от понимания надвигающегося позора.
Он повалил жертву одним ударом, просто сбил с ног и шумно запыхтел, залезая сверху.
– Что…недостаточно хорош, значит?.. – приговаривал, стягивая с девушки джинсы. – Сейчас глянем, кто из нас недостаточно хорош!
Он криво ухмылялся, оголяя сокровенное, но потом вдруг отпустил джинсы, а в следующую секунду, не дав очнуться, схватил девчонку за волосы и потянул к себе. Она накрыла ручонками его ладони, пытаясь подняться, хотя бы на колени. По щекам текли слезы боли и стыда.
– Не надо, – шептали губы, не издавая и звука. Взгляд девушки метался ни за что не цепляясь, не находя, где попросить помощи – видимо, она не могла видеть присутствующих.
А он смеялся. Зло, холодно, торжествующе.
Не знаю, до сих пор не понимаю, откуда в моей руке появился нож. Возможно, я так и держала его все это время.
Глядя на гаденыша, изуродованного жестокой усмешкой, не в силах отвести глаза, я прокручивала в голове:
«Это не моё дело. Не моя справедливость. Он волен делать здесь, что сочтет нужным. Он имеет право обрести спокойствие».
Насильник вытащил из штанов свой сморчок – паскуда! И я вновь занесла неверную руку, с зажатым ножом для удара. В тот миг вернулась тяжесть бренного тела, боль старой поясницы.
Как сигнал, раздался истошный, оглушающий крик – девушка молила.
Я не знала толком, что произойдет дальше, сработает ли «маневр»? Есть ли у меня возможность, прикасаться к парню или будет, как с его людьми?
И в первый миг нож пошел сквозь тело, словно не задевая, а затем вдруг резко остановился. Острейшее лезвие спряталось по самую рукоять в шее, как в масле. Фантомная кровь из сонной артерии принялась хлестать под напором несуществующего сердца.
Парень посмотрел на меня удивленно, и как мне кажется сейчас – с благодарностью, а в следующий миг все моргнуло яркой вспышкой, вдохнуло и исчезло, осыпалось ошметками, развалилось на куски и, словно в калейдоскопе, собралось заново в пустой зал, пропахший влажной землей.
И я осталась одна.
Что же я наделала?! Убила душу?
Правильно ли поступила? Имела ли право вмешаться? И если нет, то почему смогла? Где он сейчас? И что со мной будет?
Было много времени подумать об этом. Я исписала бесконечность зала рассказом о своей жизни. В пустоте и одиночестве за целую вечность в бренном болезном теле. Я устала. Переписывая в миллиардный раз историю, каждую секунду бесконечности вновь переживая все случившееся. Хотя она меняется, раз за разом, что-то новое рождает в душе, новые вопросы – новые ответы. С каждым рассказом меняюсь я и вот сейчас думаю:
«Обрела бы я покой, случись ему исполнить свою справедливость?».
Женщина села и опустила руки.
Сейчас у меня есть ответ. И вот что скажу: если справедливость субъективна, то было бы нечестно терпеть это зрелище. Это несправедливо по отношению ко мне. Я мать своего сына и этим горжусь. Теперь я понимаю, почему Сашка поступил так в свое время: для некоторой справедливости не должно быть места во Вселенной, даже если это означает, что мне придется заплатить.
– Я бы сделала так снова!
И стоило только утвердиться в этом, как мир снова моргнул, рассыпался искрами. Запахло озоном. Пустой зал заполнили новые люди.
____________
*Бадлон_ – «вещь, которую продают только в Петербурге. В Москве Вам предложат скучную водолазку, в Киеве – смешной гольф».
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

