Финифть
кольцо из оникса
Андрей Лебедев подарил мне два ювелирных украшения. Раньше мне никто
не дарил ювелирные изделия, и даже бабушка, которая дарила,
всё же дарила их как-то не так — какое-то кольцо с
вензелями, серебряную цепочку — всё это было не вполне то, и быстро
терялось: бижутерия, да и только.
Настоящее украшение есть эстетический артефакт. Фальшивое — его
серийный симулякр или и вовсе симулякр безродный, конструкт.
Никто не разбирается в артефактах лучше Андрея Лебедева — это
надо принять и жить с этим дальше. Это свершившийся факт. Он
и сам, кажется, уже стал собственным артефактом,
реорганизовав себя в один из каштановых парижских вечеров.
Украшение, во-первых, есть вещь
самодостаточная. Оно ничего от тебя не требует, не теребит надеть, не
просится на показ. Оно бытует. Оно позволяет на себя смотреть и
даёт себя разглядывать — но не более, само всегда оставаясь
безучастно. Украшение ничего не украшает.
В Пражском музее естественной истории я наблюдал копии всех самых
известных больших алмазов. Они, как утверждалось, сверкали и
переливались в точности, как те — другие,
подлинные. Но и обилие их, и материал — всё навевало тоску,
они не радовали, а печалили. Были фальшивыми.
Вопрос: Чем фальшивые ёлочные игрушки отличаются от
настоящих?
Ответ: Фальшивые совершенно не радуют.
В Стамбуле, во дворце Топ-Капе я разглядывал алмаз ложечника,
виденный копией абзацем выше. Алмаз был и жёлтче, и выглядел
крупнее, и в торжествующем безвкусии прочей экспозиции был
оттенён мумифицированной рукой Иоанна Крестителя и волосами с
бороды пророка и даже двумя правыми отпечатками ног Мухамеда.
Тем не менее, я помню этот камень — он был настоящий,
всамделишный, живой.
Во-вторых, украшение уникально и неповторимо. Двух
одинаковых украшений нет, и не сыщешь. О реплике алмаза я забыл на
выходе из музея, об оригинале помню поныне. Весь корпус
ассоциаций, материалов, контекстов — всё сплавляется в
неразменность. Украшение сразу узнаёшь — вот оно. Потом, видя
подделки, лишь брезгливо морщишься — потуги клонировать чудо
вызывают недоуменную неприязнь.
В третьих, украшение нерукотворно. Плывёт в вечности, ты
случайный и мельтешащий обладатель его — просто пыль,
которую протрут рукавом камзола другие. Ты всегда отчасти смущён
его владением — ты смертен, а оно вряд ли. История его
находки — это вырванная из романа страница, вечный палимпсест.
«Палимпсестом называется рукопись, писанная на пергаменте по
смытому или ...».
книга судеб
А.LEBEDEV Дронниковъ-Коноваловъ, Парижъ, 2001, тираж 30 экземпляров.
Сразу перейдём к делу — книга называется А. LEBEDEV.
Автор книги — график, маркированный на обложке калёным красным
клеймом КД, продавленным в плотной немелованной
бумаге. Дронниковъ-Коноваловъ — разгадываешь, поспешно
открывая последнюю ятированную страницу. Он собственноручно издал
книгу своих графических. Когда я пишу — собственноручно, я
имею в виду — своими руками, от начала до конца. В качестве
иллюстраций к рисункам был использован текст Андрея Лебедева.
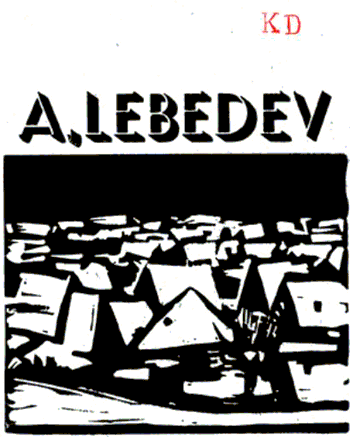 |
Книга издана тиражом 30 экземпляров, страницы плотного тёмного
картона перемежены прозрачными папиросными листами, шуршащими
заодно с собственными водяными знаками. Мне достался вещий
номер девятнадцать (19), вписанный тёмным жирным карандашом в
подчёркнутый пробел. Я смотрю на эту книгу, не открывая её. Я
немо владею ей. Я внутренне проговариваю то, что говорил мне
Лебедев: ceci n’est pas un livre (это не книга).
Иногда всё же раскрываю подарок — там внутри живут портреты лиц.
Лебедева, Бродского, Одоевцевой, Шаховской, Сапгира... Андрей
смущается этой компании. Чурается названия книги. Говорит,
что чувствует себя выскочкой. Что название книги акронимом
имени с полной фамилией застало врасплох, стало сюрпризом, и
что он дал лишь тексты для оформления и был не предупреждён о
заглавии. Я же не смущён нисколько, и Андрея разубеждаю —
передо мной ювелирная безделица, не понимаемая в привычных
категориях. Артефакт. Её приятно держать в руках, приятно
листать и не хочется возвращать на место, с которого взял. Ей
перекладываешь, передвигаешь, переставляешь. Это одинокий
розовый слоник, уходящий с каминной полки от серого пепла
прочтённых томин.
Внутри книги всё чёрно-бело. Уголь, тушь, их сюжеты: человек с
собакой, баржа на Сене. Много портретов — не отводя руки, чертя
неотрывно. Короткие скупые именительные предложения служат
названиями работ и жанровыми зарисовками: дом,
дождь. Детскими лучиками чёрное солнце светит на чёрную речку.
Башня. Книга открывается портретом эпонима, на
котором A. схож с Улиссом чертами лица — длинный тонкий нос,
высокие ноздри — буква А подразумевает аргонавта и акмэ
(зрелого греческого мужа). Книга проложена листами папиросной
бумаги — так отделяют друг от друга робкие плоды или хорошие
сигары. Или картинки — даже напечатав их, чтобы случайное
соприкосновение не разрушило колдовство отельной работы.
Удивляешься насыщенности темени на картине. Цвет и чёрен и матов.
Глубокий, настоящий — с поволокой. Не средневзвешенный Понтон
в цмыковом равнодушии, а дымный горелый уголь. На обложке
книги крыши, над ними тьма египетская. Не ахти какой экфразис,
но и не ставится такой задачи — описание бессмысленно
падает перед вечерней тактильностью чуда о книге. Провожу пальцем
по рисунку, смотрю на подушечку — пристала ли черень? Нет,
чисто.
вместительность лакун
Автора зовут Николай Дронников, он давно уехал в Париж — ещё в
начале семидесятых. Он крепок, весел, обаятелен. Иллюстратор
книги его рисунков, оставлен заглавным,
рассказывает:
«В этом году ему исполнилось семьдесят; последнее
время он пакует свой метафизический чемодан, говорит о грядущей
смерти, издаёт микротиражами рисунки в виде множества книг.
К которым для внешнего повода ищет тексты. Известен он — да
и то в узком кругу — прежде всего многочисленными изданиями
Геннадия Айги. Лет десять назад он публиковал книжки на
собственном типографском станке, старом, первоэмигрантском,
найденном где-то в Париже. Литер было мало, поэтому от Айги он
требовал обязательно короткие стихи. Больше он этого не
делает, жалуясь на здоровье и разрушительное воздействие свинца,
сообщая, что вынужден был пить за работой лошадиные порции
молока, дабы уменьшить воздействие плюмбума».
Текст вкраплён как орнамент — но не графический, не восточные узоры
бесконечного повторения. Орнаменталистика смыслом
(обязательный творительный падеж) — пояснение к рисункам, их
иллюстрация — сообщение автора графики и книги Дронникова
вычерчивается словами Андрея Лебедева, возможно оттого и вынесенного на
обложку в качестве титула. Крохи предложений, работы из
сборников — Лирическая проза размером со среднюю
неядовитую змею; Из новых стихотворений; После звукового
сигнала. Эти фрагменты и есть вклейки, аппликации, словесная
инкрустация на страницах невербального
рассказа:
«Так шёл он вдоль набережной, пронзаемый холодом,
всё-таки — вдоль, не любя льнуть к домам, мешаться с пожилыми
туристами, продавцами орешков, многими, многими;» —
вот само изображение, рисунок. Так задана синтагма для всех
неспешно следующих портретов, зарисовок и пейзажей. В
благодарность оформителю автор дал книге его имя — и не более. В
этом нет ничего зазорного.
 |
На задней странице книги замысловатый взъерошенный вензель, из
листвы которого я могу выловить букву К, но сень Д никак не
проступает. А вот, вгляделся — есть Д! Коля Дронников.
 |
Надо отметить произошедшее раздвоение, разделение Андрея Лебедева.
На Андрея, с которым мы допивали виски в его квартире, и на
Лебедева, который пишет книги, ходит в библиотеки и говорит
плотные тревожные фразы:
это не книга
Андрей Лебедев. Ангелология. Москва—Париж, издательство МИК, 1996
Вторая книга называется Ангелология и подписана
ангелолично. Более приятной и горделивой дарственной надписи не
вообразить. Ангелология остаётся в руках белым широким
альбомом, простроченным иллюстрациями. Его распахнув, проникаешь
в пространство, где всё совершаемое автором приобретает
окончательную степень, в место отливки форм и их окончательной
фиксации — небеса. Книга неразрывной сущности текста,
рисунка, макета, формата, бумаги, обложки. Всё представленное
едино и нерасторжимо. Андрей сетовал (чуть лукавя), что даже на
другие языки оригинал перепечатывают целиком, как есть,— с
макетом, с шершавым плотным глянцем белой обложки, с летящими
офортами. Книга? Я сказал — книга? Я имел в виду —
арабеска. Ибо, как говорит Андрей, а я повторяю — ceci n’est pas un
livre.
И Ангелу Концептуализма напиши:
Знаю дела твои, и
труд твой, и то, что ты не можешь сносить развратных, и
испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и
нашёл, что они лжецы.
Ты многое переносил и имеешь
терпение.
Но имею против тебя то, что ты оставил
первую любовь свою.
Я привёл эпиграф. Хотя, конечно, это не эпиграф. Это — суммарный
текст, сжатый до размеров абзаца. Очередная неядовитая гремучая
змея Андрея Лебедева.
Шкловская улитка единства стиля и наполнения, скрученная тугим
листком, разворачивается в просторный текст, в снег, в белое
небо, в крапинки букв, в топоток следов чужого разговора —
поедает виноградный лист извилины головы. Потому что зима
неизбежна. На манер манускриптов подревнее, вплетена в страницы
иконография: контуры трубящих ангелов, парящих прозрачно и
бело:
когда ангелы в самом высшем настроении любви, тогда они
находятся во свете и тепле своей жизни или в состоянии ясности и
удовольствия, когда же они находятся в наименьшей степени
любви, тогда они в тени и в холоде и или в состоянии тьмы и
неудовольствия; от последнего состояния они опять
возвращаются к первому и т. д.
Эммануил
Сведенборг.
В конец книги помещены пустые страницы: ненаписанная глава,
титулованная «для ангелологических заметок». Тираж всего тысяча
экземпляров, ужель кто-нибудь записал на эти листы свои
размышления? Возможно, сам автор — симпатическими чернилами,
цитрусовым соком с гуммиарабиком. Они проступят при прогреве
перечёта, но следует честь аккуратно, ибо второго экземпляра не
купить (равно как и первого). А если читатель почувствовал
необходимость писателя, то ему потребуется лишь карандаш —
разлинованная бумага в пределах взгляда.
Материал истории складывается в пастиш: перемежающаяся кутерьма
фрагментов, год издания 96-й, за списком ответов на вопрос «что
есть счастье» беззапиночно следует школьное сочинение
слабоумного Костыля, разговаривающего с Булей о боязни забросить
шайбу в ворота. Вмерзший в лёд призрак, оледенеющий много
позже, из всей ватаги игроков видим только одному хоккеисту —
видим веще. Он углядываем сквозь сетку текста и глазастым
испуганным читателем — действительно страшно становится забить
гол в ворота, за которыми впаян мертвец.
рибята кричат ему: ну чо ты сышь Вадепа, бей а Вадик опят
отбрасываит шайбу в сторуну и злой опят возвращаица. После я
ево спрашиваю Валентина Прокофьевна Вадик Ну чо ты сышь? бей.
А он мне ответил. Не могу Кастыль а мы играем всигда на
речке, мне кажится за воротами мужик в лед вмерз и недвигается.
Мы ходили патом смотреть но там не было никакое а
мужика.
Это один из эпизодов, сюжетно не слишком связанный с прочими, карта
в колоде ангела концептуализма. Впрочем, история
складывается в ненастоящий пастиш (таким образом приобретая черты
настоящей истории), ибо ирония поедает лишь саму манеру
мозаичности повествования, но не наполнение. Искренность пройденной
любови скрепляет фасеточный муар фрагментов в цельную
исповедь, оборачивается неразрывным материалом, литым макраме,
сплетённым из разношерстных волокон.
Материал истории — счастье. Пронзённое летучее счастье вопреки
постмодерну и деконструкции, рыхлому рассыпчатому тексту,
раздробленному на несвязанные главы, вопреки списку из двадцать
шести ответов на вопрос — что такое счастье? Счастье — это
чёрный речной жемчуг (один из ответов). Каждая глава —
зарисовка, касаниями выполненная на шёлке (тема японскости, и
вспоминается Саша Соколов с его выпавшим на шесть сяку снегом) — о
счастье, которого не вынести, которое артефакт, которое
ангел.
Материал истории — ангелы. Ими преодолевается история,
преодолевается сам её материал. Ангельское воинство рассеяно по листам
книги — они вполне секулярны, парят, обнимаются, сидят друг у
друга на коленях и жонглируют рыбами. Ангелохудожник — Ирина
Ракова. Вкраплены иллюстрации, которые не объясняют текст и
не повествуют свою историю, но со-шествуют рассказу. Они
нарисованы тонкими линиями и всегда крылаты. Многие беззвучно
дудят в трубы — кажется, они поднесли лишь их к губам, но не
осмеливаются начать — или же мы не слышим звуков их музыки.
Ангелы непрестанно играют на небесах музыку, но смертные не могут её
как следует расслышать — из-за этого в их ушах часто стоит
звон-шум. Но случается что и земные существа ухватывают
хвостик мелоса и тогда им снисходит в уши с небес звуки ангелов,
золотописьмо их крыл В зависимости от человека, музыка либо
слышна ему почти целиком, либо лишь одна партия, либо вовсе
лишь одна струна псалтериона. Музыка небесных сфер
происходит не от скрипа их, сфер, вращения и трения, как утверждали
некоторые рьяные клерикалы, а от игры ангелов на небесах.
Слышать целиком палитру — талант читателя/слушателя. Талант
читателя, ставший сегодня единственно востребованным
талантом,— услышать музыку в написанном тексте. Этому таланту не
всегда есть простор разлететься, и текст Андрея Лебедева — одно
из таких пространств.
Ангелов редко изображали поющими, ибо распахнутый рот не
приличествовал должному воодушевлению — более того, изображение щёк и
губ сопутствовало изображению Сатаны. Только в конце
четырнадцатого века начинают появляться поющие ангелы, и они
зачастую сходят с небес, выступая скорее не как провозвестники, но
как вестники Божии. Не обрамлены более облаками, поющие
ангелы восходят к иконической и текстуальной традиции Гермеса,
посланца богов — его проворные крылатые сандалии, скоропись,
изобретательность. Лактанций писал, что «Гермес был автором
ритуалов Посвящения и Мистерий,— он открыл почти всю
истину». Почти всю истину открывает Андрей Лебедев, рассказывая об
ангелах, разглядывающих с небес самих себя, обнимающихся,
слившихся на земле воедино (ангел как андрогин) и
отбрасывающих одну общую тень — тень ангела.
Не книга Ангелология — это дневник, где каждая запись датирована, но
где ежедневность наблюдений становится вкладышем в другой
жанр, другой стиль — превращается в письмо, записку, недолгий
диалог, рассуждение, черновик рассказа, а может оказаться
просто засушенным георгином между страниц. Так возникает
инкрустированная в японском стиле ранееупомянутая история о двух
одинаково любящих друг друга и перевоплощения, байка о
байке (лютнистке) Муамуре или Осаке, находящей своего
возлюбленного во всех ипостасях, под всеми масками, какие бы он
принимал:
я знаю все, что Вы хотите сказать, и потому осмелюсь
продолжить. Я устала следовать за Вами, каждый раз приноравливаясь
к Вашим новым причудам. Эта глупая безделка, которую нужно
щипать по восемь часов в день, чтобы иметь возможность
видеться с Вами; дурацкая корзина, с которой я протаскалась
несколько лет, прежде чем снова встретить Вас в Оэ; наконец,
мнимая дружба и бесконечная болтовня с супругой покойного
императора, якобы страшно занимавшие меня, а на самом деле,
необходимые лишь для того, чтобы расположить ее к себе и суметь
вытащить Вас из Рюноске, провинциальной дыры, в которой Вы по
собственной воле застряли...
Записи начинаются 21(8) ноября 1928 года и заканчиваются 8 декабря
(25 ноября) 1990 — длится 17 дней и 62 года. Это может быть
чьей-то жизнью, в этом промежутке двух дат на Сергиевском
Подворье (указание места событий взято из текста) пролетает по
каждой странице тихий ангел с грустной трубой. Мотто романа
становится графическое изображение парящего ангела, дующего
в дуду:
 |
а белизна страниц — белизной неизбежных лакун, опущенных эпизодов,
когда ангел, быть может, летел чересчур высоко. Или его
музыку становилось хуже слышно.
Но что это за временной промежуток — ужель и вправду чьи-то годы?
Есть ли протагонист окружённого белизной текста, и жив ли
текст, на каждой странице которого рождаются новые герои вплоть
до окончательной даты, за которой следуют пустые листы для
заметок — путевых? Потусторонних? Это вряд ли важно.
«Стеная и плача, он метался в бреду уже на четырнадцать дней больше,
чем полагается даже в самых страстных романах» — запись
сделана 4 декабря. Время в книге отсчитывается с первой, а не
нулевой точки — итого, наше летоисчисление не вымысел, а
строгое следование замыслу автора — отстоящий день совпал. Время
есть всегда, мы не начинаем его — но лишь наблюдаем отрезок
— это позволило критикам говорить о палимпсесте и ПоМо.
Однако, отбрасывая холостую нумерологию, мы переходим к гораздо
более важным откровениям — к горячке и жару бредящего
автора, к метанию от стиля к стилю, к утраченному времени и
приобретённому йазыку.
О сотворении ангелов:
Да, если бы у меня
был ангельский язык, а у тебя ангельский разум, то мы с
тобой отменно поговорили бы об этом; а так только дух видит это,
язык же не может подъять, ибо я не знаю никаких иных слов,
кроме только слов мира сего; однако если в тебе есть Дух
Святой, то душа твоя ясно поймёт это.
Яков
Бёме
— Когда я предлагаю ему пилюли со словами: «Примите
лекарство, больной», он покрывается холодным потом и, отталкивая мою
руку, кричит: «Этимирп, овтсракел,
этимирп!»
А. Лебедев «Ангелология»
Проблема писать: писатель, как говорит Пруст, изобретает в языке
новый язык — язык своего рода иностранный. Обнаруживает новые
грамматические или синтаксические силы. Вытаскивает язык из
привычной колеи, заставляет его бредить. (Жиль Делёз,
Критика и Клиника) Заразителен ли этот бред?
Да, если в тебе есть Дух Святой...
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

