О чём нам пишут и откуда. «Письма из России» № 2, 2008
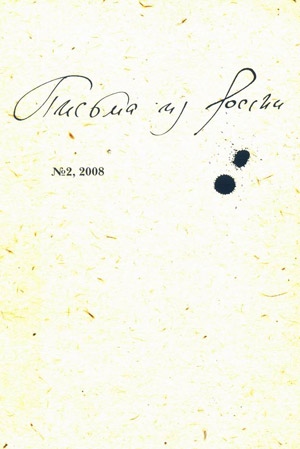 |
В журнале (новом, издаётся Сергеем Яковлевым) есть несколько действительно
интересных работ, и прежде всего, это эссе челябинца Николая
Болдырева-Северского «Между чарой силы и чарой духа» (рубрика
«Прошу принять»).
Написано блестяще – образно, узорно даже, и при этом внятно, читаемо.
Но не приму, не могу.
О чём работа: «Если некогда люди черпали высшее, идеальное
из самого идеального (боги, полубоги, титаны, герои) и тем самым
непрерывно подтягивались, высекая высшую в себе искру, струня
себя высшим напряжением, то с течением тысячелетий и особенно
последних веков идеалы стали черпать из самой человеческой обыденности».
Результат? Обожествление, идеализирование «низких» сил: от наглого
напора до умения запросто, не раздумывая, убивать. Не последнюю
роль в этой эстетизации зла играет высоколобая интеллигенция,
поскольку именно она «задаёт тон в этих вопросах, научая
массу» (Ницше, Цветаева). Что противопоставить этому
культу силы, культу личности? Культ духа, истинного человека,
свободного от низких стремлений и словесных матриц, поэзию внеличностного…
Можно и противопоставить, конечно. Но лучше не противопоставлять.
Есть ведь и ТРЕТЬЯ СТОРОНА, как раз её-то и не хватает тексту
г-на Болдырева.
Ведь что получается: говоря о том, как необходимо нам освободиться
от теорий и матриц, сам г-н Болдырев пользуется ими вполне уверенно.
Всё кругом: российское – или чужеземное, западное – или восточное,
интеллигенция – или массы, бунт – или медитация. Цветаева так
вообще «типично русским типом интеллигента» получилась.
Плюс «утончённая», «патетически эротичная», «упоённая
красотой словесных чувств». Т.е. мало того, что рамки,
так ещё и, мягко говоря, весьма произвольные (не бывает «утончённого»
крика; цветаевская эротика – что-то из ряда оксюморонов; и никогда
она не была эстеткой в этом мёртвом, бумажном смысле).
Проще говоря, г-н Болдырев видит-слышит не Цветаеву, а какую-то
странную конструкцию из «типичности», «упоённости» и «развращённости»,
и докричаться до него совершенно невозможно, он, как за стеклом,
за этими своими выкладками, главная из которых: нельзя поклоняться
злу!
Да ведь цветаевская работа («Пушкин и Пугачёв») как раз о том,
что нет и не может быть никаких идеалов в обыденности; что Пушкин
внушил своего Пугачёва, «долженствующего быть», а не бывшего,
вытащил его из кроваво-грязной каши и сделал достойным любви и
любящим. Т.е., говоря шире, что он сделал? Дал свою версию мира
– нетошнотворную. Зная злое и страшное, сотворил
красоту, сказку. Зло было – зла нет. И это конечно чудо, конечно
чара. О ней и только о ней Цветаева и говорит (и повторяет!):
«Но, повторяю, дело для нас не в Пугачёве, каков он был
или не был, а в Пушкине – каков он был»; «По окончании «Капитанской
дочки» у нас о Пугачеве не осталось ни одной низкой истины, из
всей тьмы низких истин – ни одной. Чисто. И эта чистота есть –
поэт…». Г-н Болдырев продолжает видеть поклонение злу…
И это, в общем-то, не странно. Ведь Цветаева и есть та ТРЕТЬЯ
СТОРОНА, которую ему так плохо видно (не видно вообще?). Та, которая
не мечется, быть ей «личностью» или «внеличностью». То самое «я»,
которое возможно и безо всякого обрастания непробиваемой капсулой,
без служения себе любимому: «на месте своего деяния, своего радения»,
оно служит миру, работает. О какой же «забетонированной самоотдельности»
говорить при таком соучастии, предельном вовлечении – во Всё («Что
нужно кусту от меня? / Не речи ж! Не доли собачьей / Моей человечьей,
кляня / Которую – голову прячу // В него же (седей – день от дня!).
/ Сей мощи, и плещи, и гущи – / Что нужно кусту – от меня? / Имущему
– от неимущей! // А нужно! Иначе б не шёл / Мне в очи, и в мысли,
и в уши. / Не нужно б – тогда бы не цвёл / Мне прямо в развёрстую
душу…)! Но г-н Болдырев уже решил, что «соучастие в незримом
космическом процессе» может идти только безучастно, рассеянно,
никак, безымянно/бесцельно/чисто-бытийно (грубо говоря, какие
ещё кусты, когда и я не я, и лошадь не моя), а все эти «бунты»
– от «недостатка УДАЧЛИВОСТИ», от неумения «выстроить
самый контакт с людьми и вещами». Эти-де недостатки и
заставляют – что? Правильно, поклоняться злу. Сильным мира сего,
Пугачёвым да Наполеонам. И нас в это втравливать… Прямо по Фрейду:
а этот стишок, милочка, вы написали потому, что мастурбировать
не умели.
Г-ну Болдыреву, не принимающему цветаевское «всё или ничего!»,
почему-то и в голову не приходит, что его собственный взгляд куда
более диаметрален. Что не сведёшь всё к удачам или неудачливости,
силе или слабости, чёрному или белому. И что – вот это главное,
пожалуй, – если бы такой «высоколобой интеллигенции», как Цветаева,
удалось бы «задать тон», «научая массу»… то, во-первых, это была
бы уже никакая не «масса». И это только во-первых…
Хороший, какой-то особенно грустный и всё-таки светлый рассказ
опубликован в рубрике «Простые письма». Рассказ не в жанровом
смысле, а в прямом: Валентина Ефтифеева, сотрудник
музея Шукшина в с.Сростки на Алтае, рассказывает о судьбе Любы
Байкаловой, ставшей прототипом главной героини «Калины красной».
Какая была Люба? Никто толком сказать не может, все сходятся только
на том, что странная. Добрая, нежадная. Правду
говорила. Плакала, когда сердце болело. Остальным – нестранным
– было смешно.
«…Любы Байкаловой не стало 19 ноября 1980 года. К тому
времени «Калину красную» посмотрели миллионы зрителей не только
в нашей стране, но и за рубежом».
Стихи Валерия Ланина, автора из Кургана, почему-то
попали в рубрику «Проказы». Но напроказил-то он не сильно. В том
смысле, что есть, конечно, и маловразумительные тексты («Апологию
скотины» я так и не поняла, честно говоря: Державин, ферма Агропрома,
газета «Советское Зауралье»…), но есть – просто формулки, чёткие,
красивые:
Нет друзей у тебя. Есть враги, Очень близкие, – Им помоги.
В той же рубрике и повесть Александра Шааранина «Железная
цепь со строгим ошейником». Живёт автор в Вологде (и в Интернете),
пишет хорошо, и, думаю, будет ещё лучше. Хотя и сейчас жаловаться
не на что: повесть получилась, практически с любого места цитировать
можно («Я вовсе не злоупотребляю, и вообще мне нужно было
завтра рано на рыбалку с отцом. Но когда чувство глубокого безразличия
цепко держит за горло, что еще остается делать?»; «Я пришел домой,
папы не было. Он выбрался на улицу и умер у подъезда. Соседи рассказали,
как он сообщил перед смертью, что весь мир заключается в его мозгах.
И потому, когда он умрет, то и весь мир умрет вместе с ним. Но
это так – постскриптум…»). Спросят: а не слишком ли это
веничкины штучки? Ответим: не слишком. Это после-веничкины штучки,
скажем так. Собственно, любые штучки – после-какие-то-другие.
С Венички и с самого эта ветка не начинается, он – «следующая
станция», крупная, но не начальный пункт (а ветку кто-то – грубо,
обще и в больших кавычках, конечно, – назвал утрированной прозой).
Два слова о работах Александра Майорова (Смоленская
область) и Елены Бороды (Тамбов).
У Майорова – главы из романа «Ночные диалоги с молчаливой
бабочкой». Чем текст не удался? Да самим собой. Разговаривать
с молчаливой бабочкой оказалось не так-то просто. Чего стоят одни
только эти «ага, мисс», «пока, мисс». «На мне свитер,
трико (мисс, так мерзко тогда спортивные штаны называли) и синие
резиновые сапоги». Трико? мерзко? Это после того-то,
как бабочка – МИСС?
«Мы тут вдвоём, да? Это значит, что и страх на две половинки
разделился. Мне стр, а тебе – ах… Или наоборот?» Наоборот.
Стр я себе возьму. Сказать, что стр – анно всё это…
Елена Борода, «Три рассказа»: один о любви и жизни,
другой о больных детях и жизни, третий о семье и жизни. Написано
очень длинно, очень ровно – в общем, жизненно.
Почему-то герои в «жизненных» рассказах бывают жутко безжизненные,
их описывают по два с половиной листа, а они так и не появляются.
Если у А. Майорова хотя бы понятно, кто и с кем говорит, кто кого
видит, то у Е. Бороды – расфокусировка полнейшая. Чей это взгляд?
Вот мы видим Раю со стороны – вот видим Иру – вот Рая видит Иру
– вот мы слышим Раины мысли о том, что Ира читает её мысли – вот
читаем Ирины мысли… Всё это, в общем-то, можно поправить-срастить,
только зачем? Если ни той, ни другой (ни Раи, ни Иры) всё равно
нет. За тот же «больничный» рассказ вполне, безо всяких потерь,
отработал бы толковый очерк, за «семейный» – статья.
Расстроила «Переписка редактора» (Сергея Яковлева с
критиком Валерием Сердюченко). Публикация писем и вообще
вещь спорная, а тут: «подбил старуху на воинственные разоблачения»,
«они элементарно опизденеют от такого поворота» (В. Сердюченко).
Если учесть, что и «старуха», и «они» указаны пофамильно, не будет
перебором сказать, что это перебор…
Порадовало оформление номера, в частности, рисунки Степана
Ботиева («скульптор, художник, литератор, автор
памятника Велимиру Хлебникову в Малых Дербетах»). Всё-таки
рисует он лучше, чем пишет. Цикл его текстиков («Хлебниково
поле») утомляет сразу и на все 10 (!) страниц, какое-то…
«бесконечное хокку», – а вот рисунки симпатичные.
Да и в целом этот номер посимпатичнее первого. Будем ждать номера
три (чтобы узнать, тенденция ли это : )…
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

