Мишель Фуко и Жиль Делез: феномен чтения художественного текста и понятие «нормы»
Понятие нормы во многом институционально обусловлено. Вслед за Мишелем Фуко можно говорить о том, что норма диктуется определенными ценностями конкретной исторической, культурологической эпохи, и тем, что в данную эпоху об этой норме говорится отдельными людьми или целыми институтами. Захватывающим становится момент «отхода от нормы», тенденция к «необыкновенности», «эпатажу», «трансцендентности», то есть некоторое разрушение сложившегося стереотипа, которое особо заметно при рассмотрении произведений искусства или художественных произведений конкретной эпохи. Смена научной или эстетической парадигмы происходит во всех областях искусства одновременно, в литературе, лингвистике, в философских учениях. Необходимость подобной смены эстетических средств диктуется желанием и необходимостью заново ощутить этические нормы, которые остаются, или должны оставаться при этом неизменными.
Феномен чтения и письма во второй половине XX века представляет собой смену литературного стиля. Одновременно происходит изменение взгляда на природу языка. Язык больше не делит мир на истинность и ложность, а вступает с читателем в игру бесконечных смыслов. Языковая норма, заложенная словарем, теория референции, то есть идеи логического атомизма уступают место бесконечному множеству смыслов, языковым играм, свободе интерпретаций. Норма является понятием, которое скорее относится к сфере «статики», в то время как процесс чтения и интерпретации текста - это сфера «динамики».
Жесткий фон гения Мишеля Фуко
Что такое норма? Слово «норма» в значении «нормального» существовало, вернее, господствовало всегда. Понятие нормы, во многом, традиционно и институционально обусловлено. Вслед за Мишелем Фуко, французским антропологом и философом, можно говорить о том, что норма диктуется определенными ценностями конкретной исторической, культурологической эпохи, и тем, что в данную эпоху об этой «норме» говорится отдельными людьми или целыми институтами. Фуко вводит понятие «эпистемы», которая есть обусловленное исторически культурно-когнитивное априори, совокупность правил и отношений в конкретным месте и в конкретное времени, формирующих условия существования исторических форм культуры и знания. «Эпистема — это совокупность всех связей, которые возможно раскрыть для каждой данной эпохи между науками, когда они анализируются на уровне дискурсивных закономерностей». Если опираться на идеи Фуко, то получается, что в зависимости от того, что говорят в конкретную эпоху о «норме», само понятие «норма» будет трансформироваться.
Вот, например, как оно трансформируется в отношении понятий «безумие», «нормальность», «сумасшествие» и различные пограничные состояния. В своей книге «Безумие и неразумие. История безумия в классическую эпоху» (1961) [1] Мишель Фуко пишет о трансформации понятия «сумасшествие» или «безумие» и подвергает анализу социальные представления, идеи, практики, институты, искусство и литературу, существовавшие в западной истории и имевшие отношение к формированию в ней понятия безумия. Фуко начинает своё описание с эпохи Средневековья, обращая внимание на практику социального и физического изгнания прокажённых, принятую в обществе того времени. Автор утверждает, что с постепенным исчезновением проказы именно безумие занимает эту освободившуюся нишу. Очевидным свидетельством являются «корабли безумия», на которых в открытое море отправляли сумасшедших в XV веке. В XVII же веке имел место процесс, который Фуко называет «великим заключением» — на смену «кораблям безумия» приходят «дома умалишённых»: признаваемые душевнобольными граждане подвергаются заключению в специальных институционализированных учреждениях. Фуко поясняет, что изоляция возникла как явление европейского масштаба, порождённое классической эпохой и ставшее её характерной приметой («Огромные богадельни и смирительные дома — детища религии и общественного порядка, поддержки и наказания, милосердия и предусмотрительности властей — примета классической эпохи: подобно ей, они явление общеевропейское и возникают с ней почти одновременно»). Безумцами считались лица, понесшие поражение в своих гражданских правах. До XVIII века не проводилось более детального различения в области неразумия. Поэтому в число безумцев, или неразумных, включались преступники, тунеядцы, извращенцы, больные венерическими заболеваниями и, наконец, помешанные. Основанием для внутренней дифференциации в области неразумия стала практика исправительных работ. В следующем столетии сумасшествие начинает рассматриваться как противоположность Разума. То есть медицинское знание оказывается способным сформулировать представление о безумии лишь к концу XVIII века. И, наконец, в XIX веке безумие стало рассматриваться как психическое расстройство. Безумцы стали постепенно превращаться в больных. Автор изучает научные и «гуманные» подходы к лечению сумасшествия. Правда, в своей фундаментальной работе Фуко заявляется, что эти методы ничуть не в меньшей степени носят характер контроля, чем те, которые использовались в предыдущие века. Фактически Мишель Фуко лишает традиционную психиатрию права на обладание объективным знанием о безумии, так как она априорно связана с одной из крайностей — с позицией врача. Психиатрия оказывается лишь наукообразным выражением нравственного и социального опыта безумия. Таким образом, психиатрия с самого начала является «идеологической» наукой, «выражающей интересы» врачей (или даже класса врачей) и игнорирующей страдания класса безумцев.
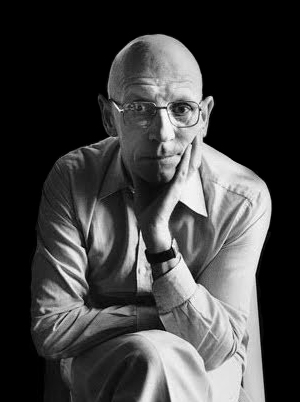 Слава Мишеля Фуко в нашей стране значительно приуменьшена (в отличие от Великобритании, и Нидерландов, где все современные лингвистические, антропологические, исторические исследования опираются на его школу). Надо сказать, что работа Фуко по проблемам, связанным с дискурсом сумасшествия, очень критиковалась, во Франции принималась долгое время в штыке, что подробно описано в книге Дидье Эрибон (Мишель Фуко. М.: Молодая Гвардия, 2008. Порядок вещей. Часть вторая) [2].
Слава Мишеля Фуко в нашей стране значительно приуменьшена (в отличие от Великобритании, и Нидерландов, где все современные лингвистические, антропологические, исторические исследования опираются на его школу). Надо сказать, что работа Фуко по проблемам, связанным с дискурсом сумасшествия, очень критиковалась, во Франции принималась долгое время в штыке, что подробно описано в книге Дидье Эрибон (Мишель Фуко. М.: Молодая Гвардия, 2008. Порядок вещей. Часть вторая) [2].
<--- Мишель Фуко
«Чтобы говорить о безумии, нужно иметь поэтический дар», — заключил после презентации своей докторской диссертации Мишель Фуко. После выступления началась дискуссия. В книге Дидье Эрибон отмечено, что сегодня принято иронизировать над непониманием, проявленным представителями французской традиционной психиатрии начала шестидесятых годов в отношении труда Фуко, сотрясавшего постулаты научного знания и психопатологических служб. На той знаменательной защите главным оппонентом соискателя стал председатель комиссии. И дело было не во враждебном отношении к Фуко или к его работе, а в профессиональной и интеллектуальной совестливости. «Меня попросили войти в комиссию как специалиста по истории философии, и я был обязан сыграть отведенную мне роль». «Нужно разграничивать философию текста и философию, основанную на тексте», — говорил он соискателю. Изложить все замечания, высказанные профессором, упомянуть о всех ссылках, подсказанных его эрудицией, представляется непосильной задачей. Возражения профессора касались всех аспектов книги, в частности, страниц, посвященных Священному Писанию. «Я не готов принять вашу интерпретацию, — сказал он. — Фрагменты Писания, которые Вы цитируете, а также комментария святого Винцента де Поля говорят не о том, что Иисус был безумен, а о том, что он намеренно вел себя так, чтобы его принимали за помешанного. <….> Думаю, вряд ли можно говорить о “безумии Распятия”, как это делается в главе об умалишенных, поскольку существует представление о высшей мудрости». Несмотря на «сдержанность в оценке», указанную в отчете председателя комиссии, книга «Безумие и неразумие» получила бронзовая медаль Национального центра научных исследований за лучшую диссертацию по философии.
Но это не единственная работа Фуко, посвященная безумию. «Ненормальные» (Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974-1975 учебном году) — другая книга М.Фуко — многогранное исследование становления в новоевропейской культуре представления о норме как биологическом, психологическом, моральном и политическом феномене [3]. Центральное место здесь занимает процесс замещения образа монстра как существа, абсолютно нарушающего законы природы и мира, представлением о норме и ненормальном как субъекте, не поддающемся нормативному воспитанию и не вписывающемся в нормативную систему социума. Значительное внимание в лекциях уделено теме сексуальности и эволюции «тела удовольствия» как средства контроля индивида со стороны общественных институтов и одновременно формы его ускользания от давления «власти-знания», что позволяет проследить становление основных идей третьего периода творчества Фуко конца 70-х-80-х гг. Лекции 1974-1975, как считают некоторые биографы, можно рассматриваемые в качестве комментария или даже предварительных набросков к «Надзирать и наказывать». Рассуждения Фуко о безумии, таким образом, выстраиваются в рамках непривычно сложной, даже чрезмерно изысканной для отечественной интеллектуальной атмосферы дискурсивной системы координат. Рецепции безумия в России последних двух столетий отличаются бесхитростностью. Все они, от обыденных представлений до специальных теорий, легко располагаются в горизонте между, с одной стороны, сведением психики душевнобольного к статусу телесной субстанции с анонимными атрибутами-симптомами и, с другой стороны, известным высказыванием Льва Толстого о том, что сумасшедшие дома изобретены человечеством с тайной целью уверовать в свою разумность. Иными словами, либо безумие есть, и тогда оно не может быть не чем иным, кроме физического, природного феномена, подлежащего строгому измерению. Либо безумия нет, и оно оказывается культурной фикцией наряду с многими другими, изобретенными человечеством с целью уклониться от программы упрощения и перевоспитания, «распространяемой» из Ясной Поляны. Третьего не предусмотрено, и поскольку, по словам одного из критиков Фуко, давно уже нет в живых ни «зеркала русской революции», ни того, что оно отражало, то представления о безумии как о физическом феномене и психиатрии как отрасли естествознания оказываются безальтернативными [4].
Выход Фуко находит в анализе психиатрии не в качестве определенного эпистемологического поля, а как дискурсивной практики. Психиатрия важна как источник формальных свидетельств о безумии, и о технологиях борьбы с ним. Но сами психиатрические концепции должны быть редуцированы. Для того чтобы радикально отстраниться от психиатрии как науки, следует попытаться проделать анализ безумия как некой глобальной структуры. Анализ безумия, освобожденного и восстановленного в правах, безумия, получившего право говорить о себе не на языке психиатрии, а на своем собственном, пока еще неизвестном языке [4].
Почему именно такие выводы? Выводы такие напрашиваются и подтверждаются всеми теми исследованиями, которые были проведены лингвистами в рамках программ социальных теорий языка и анализа дискурса, то есть исследований, которые ставили своей задачей показать, каким образом один институт (например, больница или министерство здравоохранения) может оказывать влияние на человека посредствам речи. Исследования, которые проводились показывали, например, как, с какой интенцией врач разговаривает с пациентом, каким образом он ставит его «на место», «советует», «выносит приговор», «оберегает», показывая (или наоборот, тщательно скрывая), что власть, жизнь и решающее слово находятся в руках врача, а не пациента (работы по анализу дискурса и критическому анализу дискурса включают исследования Н.Феаклафа. Г.Кресса, Ван Льювина, ван Дейка) [5] [6].
Именно тело оказывается у Фуко противоположностью власти, оказывается тем, чем власть стремится овладеть. На тело в конечном счете направлена согласованная стратегия всех многочисленных, казалось бы, действующих в собственных интересах инстанций власти. Стремясь овладеть телом, власть подчеркивает сексуальность человека, глубину и силу его сексуальных побуждений, демонстрирует постоянную тревогу по поводу возможных отклонений в реализации сексуальных желаний, жестко указывает на их несовместимость с нормами нравственности и социальными требованиями. Следовательно, оппозиция власти и тела у Фуко может рассматриваться как вариант древнейшей философской дилеммы естественного и искусственного, природы и культуры. Власть представляет собой активное, мужское, преобразующее начало. Тело, включая и его психическую ипостась, является пластическим материалом для созидательных интенций власти.
Фуко говорит не только о том, что в начале эпохи Нового времени происходят радикальные изменения в представлениях людей о безумии. Фактически он утверждает, что до появления науки психиатрии безумия не было. Этот тезис Фуко чаще всего воспринимается как явно неправдоподобный.
Фуко, например, пишет, что ему кажется, что с анализом психиатора Мишеа в психиатрию входит новый объект, или новый концепт, которому ранее в ней не было места. Это роль удовольствия. У Мишеа удовольствие становится психиатрическим, или психиатризируемым, объектом. Обособление сексуального инстинкта от репродукции обеспечивается механизмами удовольствия, и это обособление позволяет определить единое поле отклонений. Или, например, Фуко говорит о появление любопытного понятия «состояние», (которое вводится где-то в 1860-1870 гг. Фальре) и затем переопределяется на все лады, но главным образом в духе «психического фона». Состояние как привилегированный психиатрический объект — это не совсем болезнь и даже вовсе не болезнь с ее развитием, причинами, процессами. Состояние — это своего рода постоянный причинный фон, исходя из которого может развиться ряд процессов, ряд эпизодов, которые как раз и будут болезнью. Иными словами, состояние — это ненормальный цоколь, на котором становятся возможными болезни.
Подводя итоги и проводя описания, Фуко определяет три группы ненормальных. 1. Человеческий монстр. Это старое понятие, референтным полем которого является закон, то есть юридическое понятие (юридическое в широком смысле слова, ибо речь идет не только о законах общества, но и о законах природы). Двойственность природы монстра отразили в себе поочередно фигуры получеловека-полузверя (имевшего хождение главным образом в Средневековье), сиамских близнецов (характерных для Ренессанса), совмещающих оба пола (поднимавших столь многочисленные проблемы в XVII и XVIII веках). Человеческий монстр — монстр не только потому, что он является исключением для своего вида, но и потому, что он вносит замешательство в юридическую систему (идет ли речь о законах брака, канонах крещения или правилах наследования). Основываясь на примерах, Фуко выявляет целый ряд двусмысленностей, которые будут сказываться в анализе и статусе ненормального человека. Первой среди этих двусмысленностей следует назвать игру, всегда четко контролируемую игру, между исключением природы и нарушением закона. «Естественное» отклонение от «природы» вносит изменение в юридические последствия трансгрессии, но тем не менее не устраняет их совершенно; такое отклонение не отсылает напрямую к закону, но и не прекращает его действие; оно обходит закон, вызывая эффекты, запуская механизмы, мобилизуя институции уже не собственно судебные. Сюда же относится возникновение понятия «опасного» индивида, которому невозможно придать медицинский смысл или юридический статус, но которое в то же время является фундаментальным понятием современных экспертиз. Это индивид, подлежащий исправлению и персонаж моложе монстра. 2. «Неисправимый» же появляется одновременно с формированием дисциплинарных техник, которое в XVII и XVIII веках происходят в армии, в школах и мастерских, а немного позднее и в семьях. Новые процедуры выучки тела, поведения, способностей поднимают проблему уклоняющихся от этой нормативности, которая уже не равнозначна верховенству закона. 3. Третий тип — это совершенно новая фигура, вышедшая на авансцену в XVIII веке. Она коррелятивна новым взаимоотношениям между сексуальностью и семейной организацией, новому положению ребенка в родительском доме и новому значению, которое придается в это время телу и здоровью. Речь идет о возникновении сексуального тела ребенка. Говоря коротко, традиционный контроль над запрещенными сношениями (над случаями адюльтера, инцеста и так далее) удваивается контролем над «плотью» вплоть до самых элементарных проявлений. Компания эта, по свидетельству Фуко, обращается главным образом, или даже исключительно, к подросткам, детям, причем прежде всего к детям из богатых или зажиточных семей. Она характеризует сексуальность или, во всяком случае, сексуальное употребление собственного тела как исток неопределенного множества физических заболеваний, которые могут сказываться во всевозможных проявлениях на протяжении всей жизни. Неограниченный этиологический потенциал сексуальности на уровне тела и болезней становится одной из наиболее часто встречающихся тем не только в текстах этой новой медицинской морали, но и в самых серьезных исследованиях в области патологии. И если ребенок становится в итоге ответственным за свое тело и свою жизнь - так как все его беды идут от «злоупотребления» своей сексуальностью, - то родители обличаются как прямые виновники этого: недостаточный надзор, пренебрежение и, главное, отсутствие интереса к своим детям, к их телу и поведению заставляет их отдавать детей на попечение кормилиц, слуг, воспитателей, всех этих посредников, которых то и дело привлекают к суду как инициаторов разврата. Появляется принцип здоровья как фундаментальный закон семейных отношений; семейная ячейка сосредоточивается вокруг тела — сексуального тела —ребенка; организуется непосредственная физическая связь, близость родителей и ребенка, в которой прихотливо переплетаются желание и власть; и наконец, формируется внешний медицинский контроль, знание, призванное судить и регулировать эти новые отношения между бдительностью родителей и хрупким, легковозбудимым и восприимчивым к соблазну телом ребенка.
«Безумие» в литературе: игра знаков
В отношении литературы, чтобы продемонстрировать, как функционируют в тексте понятия «норма»-«не норма», «нормальность-сумасшествие», можно привести, несколько примеров, которые также показывают трансформацию понятия безумие. Возьмем, например, в качестве эпохи XIX век. Ярким представителем самого начала этого времени становится книга «Франкенштейн», написанная Мэри Шелли, той самой, которая в 19 лет написала произведение, которое совершенно удивило, просто сразило Д.Г.Байрона (поэт заметил, что произведение было поразительным для девушки такого возраста; диалектическое мышление: чудовище одновременно и жертва, и палач, открытия Франкенштейна свидетельствуют и о его разуме, и о его ограниченности).
А вот еще одна история, контекст создания и развития образа Шерлока Холмса. Холмс очень странный персонаж, этакий мизантроп, созданный в середине XIX века на фоне викторианской Англии. В одном из первых повестей о нем, «Этюд в багровых тонах», Артур Конан Дойл говорит о своем герое нелицеприятные вещи, дескать, что «знаний химии у него – ноль», «знаний философии – ноль», по сути, единственным талантом, которым обладает Шерлок Холмс, является его дедуктивный метод. И только впоследствии известный сыщик приобретает положительные черты, и уже в повести «Знак четырех» становится по истине очаровательным, трогательным, весьма рафинированным героем, которому не чужда любовь к искусству и игре на скрипке. Когда Конан Дойл приносит в редакцию «Знак четырех», с ним одновременно приходит туда и Оскар Уайльд, воплощение эстетизма и декаденства, приносит рукопись «Дориана Грея». Вывод, который очевиден в отношении образа великого сыщика таков: Шерлок Холмс — личность странная, необыкновенная, богемная, в чем-то совершенно аномальная. Он курит опиум и ничего другого не делает, как только упражняется в своем методе, раскрывая все новые преступления. Нелицеприятно он отзывается и о своих коллегах, об известных детективах или авторах детективных романов Эдгаре По и Э. Габорно. Почему такой неприятный в общем-то человек становится так популярен? Потому что после века рационализма, XIX век вдруг открывает незримые просторы для «особости» или даже «странности», или даже «ненормальности». С одной стороны, XIX века — это время Дарвина, время открытий в области всех возможных подвластной человеку науке, это время колониальных завоеваний, а, с другой стороны, это время абсолютного господства иррационального в виде психоанализа, к которому человек XIX века просто стремится. Достаточно вспомнить идею «готического романа», где появляются многочисленные демонические женщины и сверхчувствительные к духам дети (романы Томаса Харди, Шарлотты Бронте, Эмилии Бронте, Генри Джеймса) [7]. При этом интересно отметить, что Шерлок Холмс насколько противопоставлен преступному миру и полиции, на столько он с ним в определенном поле согласуется. В этом смысле, он одновременно является и ярым блюстителем закона, и его тайным и умным противником.
Трансформация понятия «безумие» особо заметно при анализе понятия «сумасшествие», которым активно пользовалась немецкие писатели начала XX века, в частности Томас Манн (1875—1955) и Германом Гессе (1877—1962). Для этих писателей сумасшествие – это в некотором роде тоже Шерлоки Холмсы, то есть художники, поэты, люди искусства, которые могу и призваны поставить под сомнение истины, расшевелить, разбудить, оказать эмоциональное воздействие, тем самым, спасти душу, это те герои, на ком держится бессознательное, иррациональное, которые понимают мир своим внутренним опытом и силой переживаний. В известном романе Германа Гессе «Степной волк» в самом начале повествования герой видит надпись на двери заведения, куда он и заходит. Надпись гласит «Вход только для сумасшедших». Художник или сумасшедший становится новым героем, несущим отличные, от общепринятых, устои жизни, а иногда и морали [8].
Возвращаясь к идеям Фуко, стоит отметить, что их продолжателями являются сторонники критических теорий анализа дискурса и социальных теорий языка, которые занимаются значительно во второй половине XX века. Взгляды на само понятие язык все чаще предполагает отсутствие четких границ, размытость или многозначность, сложность и многоликость определений и методик. Происходит слом…. Если рассматривать идею «эпистемы», которую предлагает М.Фуко, то для Современной эпохи времени (третьего этапа, который философ выделяет) характерно следующее соотношение между Словами и Вещами. Напомним, что Фуко выделяет эпоху Ренессанса (XVI век), для которой характера эпистема сходства и подобия, когда язык ещё не стал независимой системой знаков и словно бы рассеян среди природных вещей, смешивается и переплетается с ними. Классическую (XVII—XVIII века) — эпистему представления. Язык превращается в автономную систему знаков и почти совпадает с самим мышлением и знанием. В этой связи именно всеобщая грамматика языка даёт ключ к пониманию не только других наук, но и культуры в целом. И — Современная (с начала XIX века) — эпистему систем и организаций. По Фуко, возникают новые науки, не имеющие ничего общего с ранее существовавшими. Язык оказывается обычным объектом познания. Он превращается в строгую систему формальных элементов, замыкается на самом себе, развёртывая уже свою собственную историю, становясь вместилищем традиций и склада мышления.
Феномен чтения и письма во второй половине XX века представляет собой смену литературного стиля. Одновременно происходит изменение взгляда на природу языка. Язык больше не делит мир на истинность и ложность, а вступает с читателем в игру бесконечных смыслов. Языковая норма, заложенная словарем, теория референции, то есть идеи логического атомизма уступают место бесконечному множеству смыслов, языковым играм, свободе интерпретаций. Норма является понятием, которое скорее относится к сфере «статики», в то время как процесс чтения и интерпретации текста — это сфера «динамики».
В своей книге «Слова и вещи» (The order of things (1966)) [9] человек — это недавнее изобретение западной культуры, это образ, созданный современным познанием, он не более, чем некий разрыв в порядке вещей. Фуко выдвигает гипотезу, согласно которой образ человека в современном знании очерчивается тремя разновидностями эмпирических объектов: Жизнь, Труд и Язык. Таким образом, конечность человека определена и ограничена биологией его тела, экономическими механизмами труда и языковыми механизмами общения. Неустойчивость нынешнего образа человека вызвана тем, что неустойчивыми являются и образующие его позитивности — труд, жизнь и язык. Науки, изучающие человека, находятся в полной зависимости от наук, изучающих указанные три предмета. Формы познания, которые к ним обращаются, тоже обладают качеством неустойчивости.
Таким образом, язык утрачивает свою способность описывать объективную реальность. Примером тому, обширные исследования, которые предпринимаются последователя Лакоффа и Джонсона, которые говорят о том, что словарные дефиниции не передают значение слова, а что слово богато значительно более тонкими эмоционально обусловленными коннотациями, которые словари не фиксируют, но которые можно выявить при анализе. Знаки вступают в бесконечную игру означающих. Вслед за поздним Витгенштейном, лингвисты изучают многогранность языковых средств, которые одновременно предают взаимоисключающие смыслы.
Захватывающим становится момент «отхода от нормы», тенденция к «необыкновенности», «эпатажу», «трансцендентности», то есть некоторое разрушение сложившегося стереотипа, которое особо заметно при рассмотрении произведений искусства или художественных произведений конкретной эпохи. Смена научной или эстетической парадигмы происходит во всех областях искусства одновременно, в литературе, лингвистике, в философских учениях. Необходимость подобной смены эстетических средств диктуется желанием и необходимостью заново ощутить этические нормы, которые остаются, или должны оставаться при этом неизменными. Неслучайно Жан Пиаже в своем произведении «Структурализм» сравнивал Мишеля Фуко с Томасом Куном и его определением понятия парадигмы. (Jean Piaget, in Structuralism, compared Foucault's episteme to Thomas Kuhn's notion of a paradigm. Piaget, Jean (1970). Structuralism. New York: Harper & Row. p. 132) [10]. Если Т. Кун говорит о смене научной парадигмы и о характере аккумуляции знаний, или их развитии, то Фуко выстраивает определения и описания трех значимых эпох, и соответствующих им «эпистем», для каждой из которых характерно собственное соотношение между вещами и знаками.
Автора XX столетия, будь то Ж.Жене и его образы романтичных, циничных нарушителей порядка и преступников, Д.Джойс и его понятие эпифании, игры с историей, интеллектуального подтекста при созидании нового языка, В.Вульф и поток сознания, Дж. Фаулз и образа автора-демиурга, который постоянно играет собственным методом, многократно тиражирует примеры создания художественных произведений. В. Набоков и принцип палиндрома, Д.Сэлинджер и дзен-буддистский подтекст, нарушение причинно-следственных связей… Каждый по-своему, создают свой новый символический язык, функционирование которого позволяет передать приобретенный опыт, мировоззрение, ощущения новым, кардинально иным образом. Каждый из этих авторов в чем-то отходит от нормы и общепринятых законов письма.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

