Из дневника больничного охранника
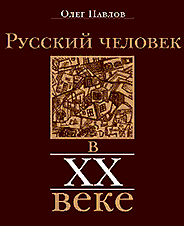 |
Мой больничный дневник оказался сцепкой многих вопросов,
точней, он неожиданно породил для меня такие вот вопросы: имел
ли я нравственное право его публиковать? понимаю ли, какое он
производит действие на людей? и многие другие. У дневника была
поначалу только история написания: литература не давала денег,
просто не на что было жить совсем молодому человеку, а уже есть
семья, ребенок — и вот, безработный, получил чудом место в больничной
охране, стал изо дня в день ходить на службу. И так было три года,
пока не сбежал с этой работы однажды осенью, когда возможно стало
отыскать другой заработок. За годы службы у меня не написалось
почти ни строчки прозы, потому что не было таких душевных сил.
Но, возвращаясь со службы после смены в больнице, я все же садился
и записывал увиденное — и все три года писал этот вот дневник.
Больничный дневник — триста страниц беглых записей, сделанных
наживую без всякой возможной обработки, притом человеком, сжившимся
со шкурой охранника; а ведь я только сбежал из конвойных войск,
где тоже был охранником. По ощущению это было так, как если бы
я из одной зоны попал в другую. Мир и так стал для меня после
службы в лагерях и увиденного там баракоподобен, но вдруг в благополучной
Москве, в обычной больнице я увидел почти тот же барак — ту же
самую, полную всяческого угнетения, жизнь.
Это было тем безысходней, абсурдней, что ведь теперь я оказался
в шкуре охранника по собственной воле, а не по принуждению; что
все входы и выходы больницы были свободны для людей; что даже
самый строгий больничный режим — был пародией на заключение. А
моя жизнь и без того была раздвоена, потому что в одном лице,
в одном реальном времени я совмещал в себе два существа: в больнице,
с дубинкой в руке и прочее — это был охранник, а тем же вечером,
скажем, на Букеровском обеде, куда под вспышки фотокамер я ехал
прямо с говенной своей службы, только отработав смену — это был
молодой литератор, какая-то там надежда какой-то там литературы.
Так вот ото всего — и от литературы, и от второй моей скрытой
жизни в больнице — меня стала отделять со временем стена одинакового
отчуждения, то есть моя душа стала как стена. И я повсюду, по
обе стороны, незаметно для себя, сначала внутренне, а потом так,
что этого уже было порой невозможно скрыть, стал чужой. В больнице
— доходило до драк, но, боясь остаться безработным, я так и цеплялся
за свое место в охране, хоть выталкивали прочь. В литературе —
навешивали вовсю ярлыки убогого реалиста, чернушника, который
ищет, где погрязней да пострашней.
В декабре 1995-го я, наконец, написал первый после двух лет молчания
рассказ. Рассказ, святочный, мне заказала «Литературная газета»
в свой новогодний номер. И я написал «Конец века» — историю бездомного,
которого привозят под Рождество в больницу, где его равнодушно,
бескровно умерщвляют, то есть буквально ждут, когда он умрет,
чтобы не возиться с ним, но его труп после бесследно пропадает
из запертого наглухо подвала морга, а это непостижимое исчезновение
становится только страшилкой в хронике-однодневке столичных газет.
Это был невыдуманный рассказ, а для меня он искуплял очень многое
— был тем выбором, который я смог уже до конца для себя совершить,
когда написал то, в чем сам-то малодушничал столько времени дать
себе отчет. Но этот рассказ в литературном мирке поскорей объявили
самой отвратительной моей чернушной выдумкой, которую читать уже
вредно даже для здоровья и прочее, прочее. То есть я оказался
как тот клоун на арене цирка, который, умирая, смешит публику,
и чем сильней его взаправдашняя корча — тем смешней. А потом я
приходил на службу в больницу и повторялось то же, что стало уже
сюжетом рассказа, и что происходит там через день: привезли бомжа,
свалили в ванну, ушли на часок, чтоб не стричь, не мыть, не лечить,
а когда он дозрел до смерти, то вытащили труп, свезли в морг —
и смыли грязь, что осталась от него в ванной да на полу...
У меня появилась вера, что э т о нравственно необходимо знать
всем, иначе все общественное устройство и устройство каждым личного
благополучия оказывается насквозь порочно и лживо, потому что
строится оно не иначе, как на смерти такого вот безымянного бездомного.
И плохо мне было не потому, что литературные критики мне посылали
похоронки как писателю. Мне стало казаться, что это я сам, претворяя
безвестную смерть несчастного человека в прозу, посылаю его умирать
в литературу, как на арену цирка, и делаю эту вот смерть небывшей,
почти игрой. Так я осознал, что должен опубликовать свой дневник,
отказавшись вовсе от вымыслов, и стал искать пути к этой публикации,
однако, того уже не осознавая, что дневник снова превращает меня
в охранника и высвечивает ярко мою собственную физиономию — человека,
который знает, что пишет постольку, посколько сам был замешан
в происходящем.
Восемь отобранных страничек дневника взяли в «Литературную газету»,
где фигура писателя, работающего в больнице, показалось экзотической,
была востребована, но вот пошли письма от читателей, одно из которых,
подписанное пенсионером, «Литературка» уже через три номера уважительно
опубликовала в спину ушедшему в небытие моему дневнику: «зачем
вы печатаете эту чернуху... зачем автор это выдумал... зачем читателям
это знать...». А сам я получал и другие письма, написанные разными
людьми: «мы все-таки не в лагерях, уважаемый писатель», «неуважению,
презрению, цинизму не должно быть места ни в больницах, ни в писательских
трудах о больнице», «почти всех умерших людей вы называете «труп»,
герои ваших заметок — это тоже не люди»... И это был «глас народа»,
чего ж здесь скажешь.
Так в действительности отнеслось большинство обыкновенных простых
людей к тому, что узнать могли только из такого дневника: не захотели
этого знать. Открытые же выступления о том, что происходит в Москве
с бездомными, неожиданно снискали мне в литературных кругах славу
«мужественного и честного», а несчастные, отверженные люди так
и погибали на улицах хуже собак.
Всякое с л о в о проваливается теперь неизвестно куда, в пустоту,
а чем громче и натуральней орешь, тем больше привлекаешь лично
к себе внимания да похвал, что хуже всякой пытки и сводит с ума:
cтоит сделать хоть шаг, а он превращается тут же в позу. Тень
сильней человека. Она всё существо его пожирает, она уже хочет
управлять всем и вся. И вместо жизни видна только одна эта игра
теней. Сознание человека — как промокашка? Впитало очередное «грязное»
пятно — и это пятно высохло? Одному человеку возможно изменить
только одну свою жизнь, но если ты часть общего и есть одно на
всех угнетение, то от него ты в одиночку не избавишься, но воле
общей будто и неоткуда взяться.
Дневник, хоть он по сути своей представляет то, что человек скрывает
от чужих глаз, у меня стал чем-то обратным: туда писалось изначально
то, чего нельзя было скрывать. Это документ, свидетельство о реальных
событиях, в чем-то о реальном дне жизни, тогда как дном жизни
сегодня оказывается всякий пятачок земной тверди, где люди лишаются
опоры в самих себе и не могут выкарабкаться.
И я там был — это мой голос человека.
Позвонили из реанимации и вызвали забирать труп. Кто-то сказал,
что это умер старик, который только успел поступить в больницу,
и его даже свезли в неврологию, а умер он по дороге из неврологии
в реанимацию. На полпути умер. Я чего-то медлил, ждал напарника,
чтобы вдвоем управиться. Спустя какое-то время вбежали в приемное
запыхавшиеся женщины — бабка, женщина и девушка, сказали, что
им надо в реанимацию — что ихнего больного в реанимацию из неврологии
перевели — и я понял, что это они о старике, который только помер.
А у меня уже на столе лежал на него сопроводок, чтоб спускать
в подвал. Спросил, время затягивая, фамилию. Говорят, Антипов.
Я краешком глаза поглядел на сопроводок — и там Антипов. Сказал
пройти дочери, но смолчал о смерти, а бабку с девочкой вроде как
не пропустил, сказал, что в реанимацию запрещается пропускать
по многу людей. Женщина засуетилась, собрали они наскоро ему пакет,
где ложка, вилка, минеральная вода и всякое такое — и ушла. Бабка
с внучкой тихонько устало разговаривали. А мне сделалось удивительно:
хоть я и знал, что он уже умер, но для них он ещё был живой. Сказать
о смерти, так вот, с порога, я бы не смог. Но минут десять он
для них ещё был живой, а у меня на столе лежал на его труп сопроводок.
В те десять минут я больше всего боялся, что явится мой напарник
да чего-нибудь гаркнет так, что всё станет понятно.
Времени прошло столько, что женщина уже должна была подняться
в реанимацию и узнать о смерти отца. Теперь отсчет начинался совсем
другому времени, её горю, которое я пережить не мог, а как бы
поминутно для себя отсчитывал, отсчитывая то, что вот сейчас она
появится в приёмном, и на глазах моих как бы произойдет эта смерть,
о которой я знал только по сопроводку. И вот она спустилась в
приёмное. Старуха всё поняла по её лицу и заплакала, они обнялись.
Только девушка не плакала, а была испугана и сидела, бездвижно
вытаращив глазки. Прошла ещё минута — и все уже смирились с этой
смертью, она прошла невидимо сквозь них. Что-то их будто бы и
утешило, не понять, правда, что. Может, старик долго мучился и
понимали они происшедшее, как избавленье для него от мук. Они
вдруг стали добрее, нежней, очень ласково друг-друга называли
— обнялись и побрели. А потом, спустя время, заявился мой напарник
— и мы побрели за каталкой, за трупом старика.
В больницу привезли совсем древнюю да и больную бабку, но была
она в сознании, к тому же её сопровождала и всячески заботилась
о ней по ходу всех обязательных процедур дочь. Бабка была вся
укутана, из платков и шерстяных одеял торчал буквально один красный
нос. Сделали ей рентген, взяли на анализ кровь, прослушали, конечно
и кардиограмма — словом, она в больнице уже так с два часа. Когда
осталось дооформить больничную карту, то бабка, замлевшая и оставленная,
наконец, в покое, проговорила из одеял: «Зинк, а можно мене здесь
остаться, так хорошо, хоть помирай». Пока её не отправляли в отделение,
она ещё и запела: «Зинк, а Зинк, ты подпевай мене, чего ж я одна...».
Когда повезли в коляске, то петь перестала и до того сморилась,
укаталась, что даже вздремнула. В палате кровать застилается под
человека; как поступит в палату, так и станут стелить. Санитарка
стелит белье и покрывает матрац холодной клеенкой. Дочь той бабки
просит клеенку холодную убрать, а санитарка делает свое и огрызается:
«Она обоссытся, а откудова я новый матрас возьму?» И тут опять
бабка подает голос: «Гражданочка, со мной никогда этого не бывало
и сегодня не будет». А санитарка знай свое: «Видала я вас, сначала
не будете, а потом...».
Привезли старика одинокого с истощением. Всё время упирался, мычал.
Его помыли, чего он не хотел. Медбрат бил его в грудину со злости,
когда тот пытался подняться. Этот человек, его сразу врачиха стала
называть Толиком — первое попавшееся имя, чтобы обращаться к человеку,
а не в пустоту — всё время что-то пытался сказать, но услышать
его уже было невозможно: ртом двигает, мучается, а ничего, кроме
свистящего хрипа, не слышно. Я его наугад спросил, может, хочет
домой — и он удивленно закивал головой. Я был единственным человеком,
кто его услышал в тот день. А потом его положили в отделение,
хотя я сказал, чтоб успокоить его, будто везут домой. Вечером
он умер, а дома у него вроде как и не было — его привезли с истощением,
и со следами, будто ребра свинцовые — похоже, что палкой лупили.
Я поглядел в сопроводительный лист, когда в подвал свозили, а
там так и прописано — «неизвестный». То есть бомж.
Женщина, молодая бомжиха, рожала прямо в приёмном покое. Привезли
с улицы. Не кричала, так что многие и не знали, что роды идут.
Тут прошел слух, что родила и уже отказывается от ребенка — и
набежали бабы, которые не могут забеременеть, их у нас от бесплодия
лечат: все просили навзрыд этого ребеночка, думали, так вот просто
им его отдадут.
Травили тараканов в поварском цехе. Мужики тамошние, чернорабочие,
обрадовались, что начальство ушло, и устроили в отравленном цехе
пьянку, сами себе хозяева. Наутро картина: кучи дохлых тараканов,
стар и млад, и валяются на полу в тех же тараканьих позах мужички.
Хозяйка заорала — оживились, расползлись, встали. Не только остались
живы, но чрезвычайно хвалили пьянку, говоря, что такого удовольствия
ещё в жизни не ведали, чтобы водка так за душу брала. Дихлофоса
надышались — вот и погуляли, насладились, будто в лесу или в бане.
Но травят тараканов раз в год. Получается, раз в году у них ещё
один день праздника, это в прибавку к общенародным. Но тут праздник
так праздник: как бы подохли, а потом будто воскресли — восторг
жизни ни с чем не сравнимый, младенческий. А сами хохочут — что
тараканов-то травить бестолку. Говорят, если на таракана, которого
морили, прыснешь водой — то он оживает. А у них тут в поварской
— пар да вода отовсюду хлещет. Тараканы оживают через несколько
часов — и сматываются под шумок.
Старшая медсестра уезжает отдыхать в Сочи. Для неё это событие.
Низший персонал, где бабы сидят на ста тысячах зарплаты, её счастью
и рады, но и обзавидовались. У них, у санитарок, нет теперь возможности
доехать даже из Подмосковья, где живут, до места работы. Электричка
вздорожала в семь раз, так что если ей пользоваться, то требуется
сто двадцать тысяч. Бабы потрясены и отчаялись. Ходили в администрацию,
чтобы им дали дотацию на проезд до работы, но им отказали, а тогда
и нету смысла работать, если расходы на проезд съедают всю зарплату.
Не знают, где им теперь работать и чем кормить семью, сидя безвылазно
в своем Егорьевске. А вот старшая отбывает на юг — как на другую
планету. К морю. Ей дают много душевных советов, чтобы собирала
волосы в пучок — так лоб и лицо покрываются ровным загаром. Сам
рассказ, как она звонила в кассы вокзала, заказывая плацкартный
билет, звучит без конца и без начала, точно песня акына. Озвучивает
долго, со всеми неизвестно откуда взявшимися подробностями, как
с ней вежливо разговаривали по телефону, будто этот разговор что-то
изменил в самой её жизни. «А она мне, девки, говорит...». Потом
всё бабьё начинает по очереди вспоминать случаи из жизни, связанные
с поездами, билетами. В тех же сильных нескончаемых красках, взахлеб
и с чувством какого-то торжества — что всё как у людей, что и
мы на поездах ездили, и доставали билеты. Начинают спорить, как
лучше ездить на юг — в купейном или в плацкарте. Старшая взяла
плацкарт за восемьдесят тысяч, ей бы иначе не хватило, она и смогла
с деньгами только потому, что проживание с питанием оплачивает
профсоюз медиков — и вот с чувством собственного достоинства рассуждает
о полезных сторонах плацкарта, что он именно гораздо лучше, чем
купейный: едешь с людьми, как спокойней и целей по нынешним временам,
а в купейном и изнасиловать могут. Ей кто-то тут же возражает,
щеголяя каким-то фактом из личного опыта, кто-то поддакивает,
что вот ехала купейным, и вправду, чуть не изнасиловали.
Старик с наколками, который с каталки просился поссать и которого
уговаривали потерпеть, будто раненного — что вот скоро доедем,
чтобы он дождался туалета. А транспортировали его на каталке долго
— по лифтам с этажа на этаж, долго их дожидаясь, и по змеевику
ядовитых больничных полуподвалов с коридором. Доставили в отделение,
быстрёхонько скинули на койку, сбыли с рук, а напоследок поставили
в известность дежурную этого отделения сестру, что старик с самого
приёмного покоя ссать просится, а она уже уложила его на матрац,
на свежие простыни и теперь заболевает у неё сразу голова. И вот
она уже уговаривает, повелевает старику: «Терпи, только попробуй
мне на чистое обделаться — положу тогда на пол, на тряпку!». Cтарик
пугается. Дежурной выходит передышка, а мы уже укатываемся и старик
именно нас, пообещавших ему туалет, отчего-то провожает как родных
слезящимися от нетерпежу глазами.
Мужчина с язвой. всё лицо побито — теряет сознание и падает, ударяясь
лицом. От каталки отказывается, боится — «чего из меня инвалида
делать». Когда ему делают гактелоскопию, то есть впихивают в него
через глотку то ли шланг, то ли кабель, он стонет, и его жена,
сидящая за дверью, плачет и затыкает себе уши — как бы бежит от
него, от его боли, не в силах вытерпеть его стонов, но, с другой
стороны, потому и нет в ней сил их вытерпеть, что она его всего
любит и переживает его боль, любя его, вчетверне. Оттого-то ей
так невыносимо, этого никто и никогда бы не смог вынести — боли
любимого человека. Вся её кричащая слабость, трусливая унизительная
дрожь и горящее лицо — это любовь. Потом она ведет его под руку,
смирившись, что он отказался от каталки, и ждет только одного
— что упадет и опять расшибется в кровь. А лицо его и вправду
всё в запекшихся корках и синяках, как у забулдыги. А он ведь
язвенник, он даже о капле водки не может подумать.
Женщина, которая тягала на адской низенькой каталке то ли мужа
своего, то ли отца — в горку, без помощи со стороны, как выяснилось,
на перевязку. В каталке, из-под одеяльца, проглядывает голое истощённое
существо. Понятно, что не жилец. И тут её яростное, с ненавистью,
упорство — чтобы, не дай бог, не везли его вперёд ногами, когда
я помочь ей взялся. Пожалуй, она возненавидела меня — дальше помогать
почти не дала. Я-то для неё умер, стал ничтожеством, а вот который
в каталке — был всем, такова, точней, была сила её воли, даже
чем-то пугающая. И другая женщина уже вечером — та же почти картинка,
когда возила на перевязку свою тетку. Сама она появилась у меня
на глазах, робкая и покорная, неделями двумя раньше, когда искала
эту тетку в хирургии, а нашла в реанимации — тут даже обрадовалась,
что нашла, а то мотали её по больнице бестолку, ничего не разъясняя.
Потом навещала каждый день. Очень добрая, нежная. С виду внушающая
какую-то к себе теплоту, будто воробушек. И вот вижу — идёт плачущая
по коридору. Не довезла. Будто, как ни старалась, не осилила.
Там была у тётки какая-то тяжёлая запущенная грыжа.
Хирурги, молодцеватые, розовощекие, успешливые в работе, а значит
и в деньгах, ребята — пьют, модничая, только американский джин,
а когда напьются, то переодеваются в спортивную форму и отправляются
играть в футбол. Новый стиль жизни! Но какой-то он игрушечный
или уродский. Хоть может так теперь и будет: напиваться, но тем,
что модно; любить женщин, но для здоровья, давая волю чувствам
не в любовной срасти, а в извращениях; похмеляться не иначе, как
футболом, переодеваясь в спортивную форму.
Повариха с кухни одарила нас медовыми пышущими яблочками. Мне
с килограмм — и санитарке, Катерине, столько же насыпала в подол,
сколько влезло. Одарила со слезами, впихивала чуть не силком.
Эту сердечную женщину наши в сердцах обвинили, что она ворует
— сумками тащит. Что правда — все они там тащут, от заведующей
до последней пьяни чернорабочего. Но эта вот обиделась, не могла
такого обвинения на дух осознать, начала терзаться: «Я воровка?
Это я-то воровка?!» — со слезами в глазах, и давай нас одаривать
теми яблочками, которые не иначе как для себя припрятывала, откладывала
в ведро, то есть воровала. «Вот, берите родненькие, сколько хотите,
ешьте на здоровье, ешьте! Вам ведь тоже витамины нужны!». Порыв
этот был самый женский, самый искренний, самый русский — отдавать
ворованное, но не без сожаления, именно как своё, отчего-то уже
и не ворованное, а кровное.
Труп по фамилии Долгих. На ноге зелёнкой год рождения и анамнез,
в общем, мужик тридцати пяти лет, молодой, скончался ночью в реанимации
— траванулся, не сумели откачать от опоя. Но тут, когда хотел
на каталку сваливать, являются мне его неживые глыбистые ступни,
на которых поверху две татуировки, будто на мраморе высекли:
КАК
МАЛО
ПРОЙДЕНО
ДОРОГ КАК
МНОГО
СДЕЛАНО
ОШИБОК
Ноги связаны бинтом, так что и читаются строфы не раздельно, а
слитно, одним предложением. Я увидал стишки, когда переваливал
его изножье на каталку. И он, Долгих, навечно, остался в моей
памяти, и эти строки есенинские в мозгу у меня теперь выжглись.
Медбрат, подъедался в приёмном покое — паренёк, эдакий плюгавый
и неуравновешенный. То и дело под глазом его является синяк. Вот
история, мне известная, об одном из синяков. Налили ему сестры
винца, а он со стакана опьянел. Опьяневши же, а дело было глубокой
ночью, поднялся на этаж, то ли в терапевтическое, то ли в неврологическое
отделение, где принялся вытряхивать больных из коек, выстраивая,
насмерть перепуганных, строем в коридоре. И люди-то выстраивались,
никак пьяному нахалёнку не перечили, позволяя творить над собой
чёрт знает что, эдакий парад. Но один мужик, что-то уразумев,
заподозрив, хоть и с опозданием, но вышагнул из строя и дал в
глаз.
Многие бездомные, то есть бомжи, умирают на санобработке, когда
их отмывают в ванной — не выдерживают горячей воды.
Окончание следует.
Страницы Олега Павлова в сети:
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

