Чеховское золотое сечение
\Д. Рейфилд «Жизнь Антона Чехова». Пер. с англ. О. Макаровой. «Издательство Независимой Газеты», 2005.\
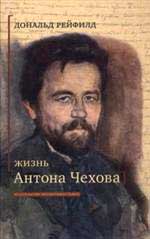 В связи с выходом составленной англичанином Д. Рейфилдом чеховской биографии в последнее время часто и по-разному писали о Чехове. Развязано– снисходительный стиль жадных до жизни рекламных мальчиков отменно воспроизвел, например, А. Кротков – судя по причавкивающему обертону его суждений он даже жвачку изо рта и ту, кажется, не счел нужным изъять. Но до надежды всего прогрессивного и сороконутого человечества В. Ерофеева ему, конечно же, далеко.
В связи с выходом составленной англичанином Д. Рейфилдом чеховской биографии в последнее время часто и по-разному писали о Чехове. Развязано– снисходительный стиль жадных до жизни рекламных мальчиков отменно воспроизвел, например, А. Кротков – судя по причавкивающему обертону его суждений он даже жвачку изо рта и ту, кажется, не счел нужным изъять. Но до надежды всего прогрессивного и сороконутого человечества В. Ерофеева ему, конечно же, далеко.
Заметки последнего в МН книге Д. Рейфилда посвящены уже целиком. Странноватые, надо сказать, получились заметки. Вроде бы пытается защищать Чехова от слишком уж делового и бесцеремонного биографа. Но, защищая, уже своей нагло-наступательной – истинно еврофейской – бесцеремонностью добивается совершенно противоположного эффекта. В. Ерофеев в общем-то равнодушен – как к Чехову, так и к британскому варианту его биографии. Но детали частной жизни, поданные не как элементы состоявшегося бытия, а как подробности, выдернутые для жадного просматривания, возбуждают В. Ерофеева предельно. Он – чуточку не в себе. Он слегка раздваивается– хочется и классика не обидеть и биографу подсюсюкнуть. Из этого раздвоения и рождается его «компромиссная», разъясняющая формула «философу ничтожества приписана ничтожная жизнь». Задним числом В. Ерофеев фактически осознает свое раздвоение. Это хорошо чувствуется по его репликам в беседе, состоявшейся с автором биографии на «Свободе» – В. Ерофеев он явно уходит от прямого ответа на вопросы ведущего, и тому самому приходится растолковывать Д. Рейфилду суть ерофеевской позиции.
Свою же исходную позицию Д. Рейфилд фиксирует четко: пишется биография, преднамеренно отделенная от творчества, освобожденная от него. Реализован, можно сказать, чисто английский вариант постижения сущности: шкура отделена от верблюда, старательно обработана ножичками эпистол, подсушена, подретуширована под современное восприятие – превращена в чучело и выставлена у камина. Но самому автору биографии больше нравится, похоже, совсем другой образ: «По-моему, существует два типа биографа. Один – это хорек, который ныряет в нору, чтобы достать оттуда кролика. Второй – это портной, который шьет из шкуры кролика хорошую шубу. Может, мы еще ждем портного, который сошьет хорошую шубу из биографии Чехова, и, может быть, это другим понравится».
Читателю же остается только решить, какой из Чеховых окажется более правдоподобным и живым – удушенный ненасытным убийцей хорьком или засушенный чучельных дел мастером...
В своих высказываниях на «Свободе» В. Ерофеев в одном все-таки прав – методическая проблема здесь, действительно, существует. Можно ли, допустимо ли рассматривать жизненные коллизии художника автономно от его творчества ? Или биограф, чтобы не превратиться в бульварного репортера, обязан все-таки понимать творчество художника и как форму его самооценки, обязан видеть в его произведениях прежде всего факты биографии, ничуть не менее важные, чем поездки, связи, женитьбы и пр. Ведь понимается это, например, И. Клехом, автором любопытнейшей биографической работы «Чехов: Ich sterbe» –
«Его интимный и сокровенный дневник – это его литературные произведения» …
Да, Д. Рейфилду можно поставить в вину его прагматизм, его стопроцентную, уровня патологоанатома, отстраненность от предмета исследования. Но с таким же успехом, как понятно, ему можно поставить в вину и, скажем, цвет волос. Когда ведущий на «Свободе» напоминает о пушкинских словах «мало кто, как я, презирает мое отечество, но я не люблю, когда мне об этом говорит иностранец», Д. Рейфилд. понимающе кивает: да, да, увы, увы – «мы уже несколько столетий боремся с этой проблемой, что русские свободно критикуют русских, но не позволят чужому человеку вмешаться в это. Это я понимаю. Английский читатель уже давно помирился с тем, что французы будут писать плохо о них, и это будет совершенно спокойно переводиться на английский.»
Можно лишь добавить, что еще столько же столетий будете бороться и с тем же успехом. Пушкиным подмечена национальная особенность – из тех, что никакой европеизации неподвластна. С ней много чего связано в российской истории и судьбе. Наполеону, например, и завоеванный Берлин, и завоеванная Вена давали балы (завоеванный Лондон, скорей всего, не стал бы исключением). Москва же известно как ответила, и из «завоеванной» Москвы он вылетел как из катапульты…
Английское чучело Чехова, будьте уверены, Россия не примет. А. Немзер, можно сказать, уже зафиксировал это: «Рейфилд искренне стремится не утаивать ничего, видимо, надеясь, что «материал» заговорит сам по себе. Увы, «материал» молчит.» И даже попытался объяснить почему молчит – автор филолог, не художник, нет творческой интуиции – «способности «додумывать» (если хотите – «придумывать») чужое сознание, «обнаруживать его сюжетную логику»»
Уделил внимание книге Д. Рейфилда («умного и тонкого лондонца») в своем очередном обзоре и Г. Амелин. В его публикации есть ссылка на И. Анненского: «забудьте о какой бы то ни было реальности, никаких соответствий, никакого реализма. Те же три сестры не из реальности пришли, а – откуда? Да вот самозародились из литературы. Ты в них себя узнаешь, они cебя в тебе – ни за что». Это тонкое замечание Г. Амелин, к сожалению, совершенно не использует при своей оценке биографии Чехова. Он хвалит «чистейшего дескриптивиста» Д.Рейфилда за то, что тот «раз и навсегда разводит мосты между жизнью Чехова и его текстами», нещадно бранит «шоумена Ерофеева, обвиняющего новейшего биографа в том, что тот постыдно утопил великого писателя Чехова в жизненной клоаке.»
А, между прочим, в фантастическом парадоксе И. Анненского (при полном несоответствии чеховских героев жизни из самой жизни они тем не менее легко узнаваемы), и заключена, возможно, загадка Чехова. Это несоответствие есть признак хорошей литературы, признак состоявшегося художественного обобщения, типизации, если угодно. Художественный тип и не должен узнавать себя в единичном, но, конечно же, должен быть узнаваем им… У Чехова же его литературность идеальна, совершенна – в том смысле, что им обобщаются не особенности характеров, поведения и прочее из этого ряда, а какое-то фундаментальное свойство бытия. Потому и оказывается у него эта литературность особенно вызывающей – ну все не так, как в жизни, а оторваться, глядя из жизни, невозможно. Это совершенство чеховской литературности, как мне показалось, остро почувствовал И. Клех. Вот, что он пишет, например, о «Вишневом саде»: «Потому и ставят эту пьесу до сих пор, что сыграть ее невозможно: нет на свете такого театра, одни попытки и приближения. А сыграют – больше не нужен «театр», да и жизнь прошла».
Теперь остается понять, о каком фундаментальном свойстве бытия может идти речь. Для меня это свойство стало очевидным при работе над статьей, посвященной роману И. Полянской «Горизонт событий» – у нее есть там чеховская тема, она не главная, но и далеко не случайная. Разрабатывая ее И. Полянская и обнаруживает, как мне показалось, вот эту удивительную способность Чехова: быть художественно равным реальности– не усиливать в ней зла, но и не уменьшать добра. Полное, идеальное, соответствие жизни и чеховского отражения ее: отсюда и поразительная инвариантность его героев относительно всех и всяческих социальных преобразований, и сдержанность в оценках Чехова свойственная некоторым грандам российской словесности. Редко, ведь, кому удается удержаться на этом зыбком гребне (идеальное соответствие) и не в чем не уступить – ни натуральному, ни идеальному. Достигается это, как правило, галерным трудом, а тут – все просто и естественно. Как дыхание.
В чем же выражается это идеальное соответствие и причем тут все-таки фундаментальное свойства бытия?… Для ответа на эти вопросы требуется небольшое отступление.
Существуют результаты любопытнейших эксперименты В. А. Лефевра с фасолинами («Вопросы философии», 1990, №7). При попытках разделить одинаковые с виду фасолины на плохие и хорошие получается странная статистика: не ожидаемые 50 на 50, а небольшое, но устойчивое смещение в пользу хороших фасолин – приблизительно 0.62, или пять восьмых, то есть величина очень близкая к отношению, в котором делит отрезок точка золотого сечения (большая часть относится к меньшей так, как отрезок в целом относится к большей части). На этом сечении, можно сказать, держится эстетика зрительного восприятия – для совершенного, идеального человеческого тела точками золотого сечения являются, например, пуповина (для тела в целом), колено для ноги, локоть для руки и т.д. Опыты В. А. Лефевра позволяют высказать предположение, что золотое сечение контролирует и этику – соотношение добра и зла в мире устойчиво смещено в пользу добра. Вот это золотое смещение порядка пяти восьмых и можно назвать фундаментальным свойством человеческого бытия. Художественное же равенство Чехова реальности в идеальном отражении этого смещения и выражается.
Человек, понятно, живет не идеями и принципами, а просто живет. Хотя в тоже время постоянно подчинен каким-то установкам, о которых не задумывается. Литература, искусство пытаются понять этот по преимуществу бессознательный механизм, то есть внести в него элемент сознания. Они могут искусственно еще больше смещать соотношение к добру – идеализировать мир, превращать его художественную модель в некоторый ориентир. Может быть воздействие и от противного – смещать в художественных моделях соотношение в пользу зла в надежде на активизацию каких-то внутренних резервов сопротивления злу. Чехов идет крайне редким третьим путем. Он может им идти в силу своего уникального дара – в силу своего абсолютного этического слуха, позволяющего ему слышать это золотое сечение в соотношении добра и зла на земле – воспринимать его как незыблемую и абсолютную ценность. И слыша его, он создает литературный мир идеального соответствия реальности. Глядя из него, ничего подобного в человеке не увидишь. Но люди вглядываются в созданное Чеховым идеальное зеркало, видят себя реальными, грешными, но – со странной, небольшой и неистребимой склоненностью к идеальному… И это при всех отклонениями статистически позволяет удерживаться вблизи золотого сечения – не увеличивать зла в мире.
Чехов и сам таков – человек золотого сечения. Об этой особенности его и говорит, пожалуй, И. Клех, характеризуя эпистолярное наследие Чехова: «Это чеховские письма – шедевр искусства жизни, не имеющего примет и не оставляющего следов. Безыскусность, естественное течение, переходы от редкого здравомыслия к дурашливости и от бодрости духа к меланхолии, удивительные прозрения, меткие характеристики и формулировки, каких не сыщешь в его произведениях для читающей публики, дань иллюзиям и заблуждениям, рядом деловые записки – все живое, и все складывается и образует поразительной красоты пропорцию между большим, разомкнутым, и внутренним, сосредоточенным миром пишущего».
Каким же безнадежным евро-пейцем надо быть, чтобы не заметить этого и практически на том же материале (никакие новые факты не могут перечеркнуть всего, о чем пишет И. Клех) сделать то, что сделал Д. Рейфилд.
Отрывая биографию Чехова от его творчества Д. Рейфилд покушается в Чехове на человека золотого сечения. Но удар проходит мимо цели – А. Немзер абсолютно прав. Это чувствует даже В. Ерофеев. Хотя, конечно, не признается в том и под раскаленным утюгом, поставленным на грудь.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

