Разговорный жанр жизнетворчества. Беседа первая
Собравшись вкруг сосновости лакированных досок яффски купленного
застенка, мы по обыкновению предались верликийскому и
прихотливому разглагольствию о пережитом за последние годы.
Этот визит Вадимуса оставил в хадерских закромах груды не по-конски
даренных зубастых книг Бытия, из которых за чаем и чаем, не
чаем уж черемисов поддых: не ясно как в диссертантски
крученыховском аде очитать, взыскательно оглазастить все эти
белесые страницы. Время есть. Время слагать сказки. Время
скользить в салазках, темя - месть. Мозжечок как волшебный
Туранчокс, фантазийный курок, борисов "прозрачный цыган",
искрометный зверь, радио. Карлики кровавые в глазах. Бедные
гамлетовские Йорики. Пиджачки отшибнутые, зябко-зихронские. Где вы
теперь? Сестра или спать? Кто дал здесь право помнить о них и
лопотать еще много раз? Вести речь пришлось о наиболее
злокозненном паводке нашего cуществования – о культурной градации
традиций жизнетворчества и их воплощениях на ижых приозерных
ивах, на нивах актуалии. Беседу об этом мы представляем
вашему просвещенному вниманию.
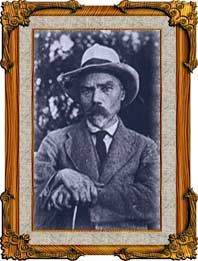 Валерий Яковлевич Брюсов |
Денис Иоффе: Общую проблематику представляемых размышлений следует ввести в такую канву, которая могла бы предложить адекватное обнимание наших с тобой рефлексий, связанных с исторически фиксированным – дошедшем до нас феноменом символистского жизнетворчества. Хотелось бы, кроме всего прочего, попытаться понять, что происходит в этой сфере сейчас, в текущую окаянь тех дней, коим мы, волею-неволею определены в свидетели. Ныряя в прошлое мы видим неких шебутных муравьев, какие-то блики и тени: персонажи Большого Времени, которое взлелеяло на своей могутной груди интересующий нас феномен. Стебельки и латания, отсвеченная муть краеглазо читаных книг… Так прорастают гниловатые семена в воспаленном мозгу Валерия Яковлевича Брюсова. |

Муся Башкирцева
Начало девяностых. Мережковский лишь пыжится,
охаживает Зину, Вячеслав - покамест не шибко русск, германски,
по-моммзеновски отсутствует, не думает, Боренька - Котик и
Сашура Блок еще на подкорке, в тотальности предрождений, у них
ничего нет. Есть только Брюсов и Бальмонт. Бальмонт и Брюсов.
Однако, из этих двоих, именно Валерий настольно
зачитывается Мусей Башкирцевой, пялит на свой картуз французские
эмблемки, тулится в радикальную модность. Девушка уже подгнила,
знает, что концы в воду, швартовы в брос, чушь собачья,
конечно, но воображение восемнадцатилетнего Валерия было летально
поражено Мусиными дневниками (известными ему, кстати, в их
галльском букворяде). Муся знает, что все у нее телесно
обрывается и вот-вот кончается, но это не только не мрачит ее
рассудок, но напротив, лишь вдохновляет на проникновенное
письмо. Жизнь транскрибируется в текст, реальность верно дышит со
страниц да на ладан. Этот башкирцевский
литературно-дневниковый экспириенс не имел аналогов на тот момент, а у Брюсова
с измальства было необыкновенное чутье на такие вещи.
Мессидж был схвачен, распознан и воплощен в стихотворности. В
первую голову, вероятно, в ролевой игре «публичной issue» ,
уместностью выйти в заголовки, продать и преподать себя в
беспрецедентном на русском подворье свете. Выдать на гора свой
жизненный текст. Если мы уже начнем использовать эту
полу-лотмановскую номенклатуру. На самом деле она не лотмановская, но
скорее Клиффорд-Грицевская, но это пока неважно.
Вадим Темиров. А здесь я тебя, друг мой, попробую перебить, что ли…
Д.И. Ради этого я, собственно, и начал говорить.
В.Т. Да, так вот относительно такой проблемы… Мы включили этот
аппарат (показывает пальцем на минидиск) и наш с тобой текст
существенно видоизменился: у нас появилась гипотетика некоего
слушателя. То бишь, читателя. Проблематика жизни-текста мне
представляется смутно. Ведь когда пишется жизни-текст, а он
пишется всегда набело, определяется ему какая-то целевая
аудитория: то, о чем ты говорил, когда Брюсову было крайне
желательно выйти наружу «в заголовках газет». То есть завоевать
заголовки. Жизнь обретает зрителя помимо себя самой.
Автореферентность мутирует, выкатывается твой излюбленный какиш
скорби. Полемика с пустотой, с несуществующим пепперштейном, с
рубриками какого-нибудь апробированного места печати,
гиперборейного арта, крюолизма и хрен знает еще чего. Ты сам
становишься внеположенным по отношению к субстрату собственного
текста, лихим скифским гребцом выбираешься за скобки,
становишься наблюдателем себя.
Д.И. Экстазис. Греки так это могли называть. Ek-stasis. Ты
позиционируешь себя вне рамок тобою же порожденного дискурса. Они,
право слово, не оперировали, категориально, «дискурсом», но
смысл мог быть такой же самый. Это связано с божественным
опытом трансгрессии, всякого состояния транса. Попробовать
наблюдательно отследить самого себя, в массе материи, в эргоне
длящейся оргии, в пустыше совокупительного быта вдруг
проглянет эдакий мамоновский пес, который был чужак, но хвост его
вильнул!
В.Т. Так жизни-текст и есть в частности своей – такой вуайеризм, где
ты постоянно пишешься – возвратный во всех смыслах глаголец
действия. Как бы формируя свою собственную перцепцию,
своевольно оценивая родственные порождения. Рефлексия, которая
входит в состояние реверберации.
Д.И. Но, Брюсов, что характерно, не желал завоевывать заголовки,
будучи позиционируем, как еще один славный человек, попавший
под лошадь. Не любой ценой, не ради изъяна газетной бумаги, но
именем пославшей его (будущей) жены-Иоанны... Его
интересовало именно войти в разговор по преимущественно эстетский,
да, во всякий разговор, который занимался бы жизнью
литературы. То есть он хотел получить такой трамплин, который бы одним
легким манием перебросил его в дискурсивное поле
лигитимировавшихся практик литературократии. Где он был бы таким
своенравно-обособленным теургом. Персонажем, несущим заряд Нового
Искусства.
В.Т. Вынося себя за скобки – математическая операция, мы тем самым
становимся множителем всего того, что происходит в скобках.
Попасть под лошадь – весьма малое жизнетворчество.
Разумеется, если это не частица Системы – концепта.
Д.И. Под лошадь попадал, как я догадываюсь, один персонаж. Является
ли с твоей точки опоры, в твоем восприятии, Остап
Ибрагимович Бендер… мы предполагаем вслед за Эткиндом разную
реальность у Бендера и у ильфов, у Бабеля и у Ямпольского с
Жолковским. Является ли бендеровский способ бытия жизнетворческим?
Умея и решившись войти в литературу в качестве не читателя, но
писателя, как Лев Татьянович Толстой, стал бы Бендер
казусно жизнетворческим?
В.Т. Это каверзный вопрос. Ты извратить стремишься Бахтина, хочешь,
фальшивя, отнестись к Герою не как к Автору, не ставя эти
дистинкции между Собой и Прочитанным. Будет ли Остап Бендер
творцом собственного текста?
Д.И. Подпадет ли он ильфству?
В.Т. Станет ли его поведение эстетизированным? Подпадет ли он
тексту, подпав под лошадь… едва ли. Я не предполагаю, что Бендер
для меня окажется жизнетворцем. Ибо он выпадает… Его
нарративы не явятся ни для кого эстетически значимыми.
Д.И. Вместе с тем он бы не мог соблюсти ни какого литературного
текста полностью избегнув своей жизненной сущности.
В.Т. Более того, его текст был бы исключительно его жизнью.
Все будет в рамках того, что он попал под лошадь. Он бы все время туда катился.
Д.И. Да, а эта слава (курицынская) не шибко Бендера занимала на
самом деле. Литературоцентричная.
В.Т. Он был несколько более прагматичным человеком, хотел заработать
миллион. Текст, о том как он заработал миллион, попав под
лошадь, мог стать бы бестселлером.
Д.И. Возвращаясь к Валерию Брюсову, который не стремился заработать
с помощью своей литературной деятельности, то есть не прямо.
Он лишь желал лигитимизироваться в среде художественных
Удодов в качестве значимого персонажа. В качестве Законодателя
современных вкусов российского искусства. Он хотел быть
свежесделанным задорным вариантом изначально нерусских
представлений об изящной словесности. Ситуация развивалась таким
образом, что именно Брюсов дал тот самый интимный толчок
(хронологически говоря), который и привел впоследствии к
бурно-буйному цвету русского жизнетворчества в русском символизме,
пришедшемся на первые полтора десятилетия двадцатого века.
Характерно, что евреев в среде жизнетворцев не было. Не назовем
же мы лиотаровским закавыченным «евреем», скажем,
какого-нибудь невинного в этом отношении Сологуба? Не назовем. И не
надо. Нам чужой геростратовой славы первооткрывателей… не
понимаю, почему всякий раз, когда я произношу «слава» мне
хочется добавить что-нибудь куриное?
Характерно еще и то, что далее Брюсов начинал отходить от
радикальных жизнетворческих представлений и воплощений, уступая в этом
отношении пальму первенства персонажам плана Иванова и
Белого. Оставляя особняком загадочно-религиозную фигуру
опростившегося Александра Добролюбова и его несчастной сестры –
просто Марии. Хотя эта константа жизнетворчества – в
стратегическом смысле, всегда была актуальна для брюсовского текста. Он
так или иначе увязывал это. Спиритичество, инвенции в
любовность огненно-ангельской Ренаты – не Лахманн, но Петровской,
дамы, разновременно объединившей в своем интимном лоне два
таких несхожих между собой половых органа – Валерия
Яковлевича и Бориса Николаевича. Не станем же мы забывать, что
Петровская была той, чуть ли не единственной женщиной, с которой
был секс у Андрея Белого. Это доподлинно известно. Роман
Гуль даже написал специальное (полу-мифическое) эссе,
увязывающее аморфную (квази-импотентскую) сексуальность автора
«Петербурга» с его литературой. Тем не менее, факт остается
фактом: Любовь Дмитриевна Блок, распустивши косу, по собственным
воспоминаниям «выбежала раскрасневшись» из номера Белого,
когда оба они устыдились и усмердились нечаянной «радости
плоти», а вот Нина Петровская – смогла. Овладела сыном великого
математика. Мы мало знаем о сексе Белого с Асей Тургеневой,
возможно он и был, как-то так, но явно не ахти, не то бы не
убегла Ася к имажинисту, у которого, по Маяковскому «не
вкусы, но вкусики» - к недоношенному поэту Кусикову. С бесноватой
немолодой бабой-Клавой – теософкой и кликушей, у Белого
вряд ли был какой-нибудь полновесный половой контагиоз. Так ли
иначе, но символистский эрос имел самое непосредственное
отношение к феномену жизнетворчества. Все мыслимые треугольники
– Иванова, Зиновьевой, Сабашниковой, Волошина,
Мережковского, Философова, Гиппиус, Злобина, Белого, Петровской, Брюсова
и прочих – составляют костяк пенетрирования текста
жизненного в литературный, и наоборот.
В.Т. Приход же Брюсова к активному жизнетворчеству, был, если я
верно припоминаю, исправь если что, связан с кончиной его
возлюбленной, что привело Валерия Яковлевича в глубочайшую
дeпрессию, у него на почве этого эмоционального упадка и началось
развитие обсуждаемых идей.
Д.И. Он был в депрессии из-за смерти любимого человека. Это отражено
в дневнике Брюсова. Тогда же начались те самые
развратно-инфернальные шатания по ночным улицам, где одним из его
ближайших напарников был Константин Бальмонт. Переход из кабака в
кабак, от одной б***и к другой, подчеркивание подпадания
тому «декадентскому образу» правильного поэта, которому они
хотели соответствовать в ту пору.
В.Т. Да, конечно, во всем этом есть очень много от французского
культурного бытования. Верлен…
Д.И. Вэрллээн. Вся их транскрибируемая в русскую азбуку французская
фонетика носила неизлечимую печать Позы. Дичь декоративная,
конечно, но забавно. Все это так карикатурно. Они ведь были
зело карикатурны в своем жизнетворчестве, особенно в
начальной его фазе. В самом Брюсове много есть от карикатуризма.
Перечитывая не так давно, по долгу службы, дневник Брюсова
девятисотых годов, я был буквально шокирован всем этим. Там
можно увидеть такие фигуры речи, которые мне живо напомнили то,
что артикулирует в наши дни некий медийный юноша Дмитрий
Ольшанский в своем какальном дневнике. Это просто
поразительное сходство. Такая рефлексия, где Брюсов говорит – записывает
в тот или иной день: «Вот, сегодня обо мне написали там-то
и там-то. Обо мне пишут как о поэте. Я становлюсь успешен.
Очень хорошо. Процесс пошел» Примарноватая такая, легко
считываемая стратегия формирования «юношеского» выхода в
литературные люди, фрондирующего гиблого эпатажа «как Брюсов не стал
черносотенцем»… Конечно, Ольшанский не в пример примитивнее
и неуспешнее... Но меня поразила не столько семантика,
сколько удивителньо сходный эмоциональный замес
фразопостроения…Это вовсе не говорит о том, что господин Ольшанский проводил
слишком много времени над чтением пиес Брюсова, но о том,
что Валерий Яковлевич в своей юношеской стезе был буквально
помешан на Успехе, на каком-то обсессивном лакановском
желании стать безотцовским притчею, не важно в каких языцех… Лакан
же тут не случаен: этот фрейдистский пост-лингвист помогает
нам понять фазу Преодоления умалчиваемой фигуры Отца.
Посуди сам: Брюсов превозмог, перешагнул через угрюмого
алкалоидного батяню, просиравшего купеческий капиталец деда-молодца.
Отец для Брюсова – постыдный, ото всех сокрываемый фокус
отстойного и немодного бытия, гибельного отторжения, поэтому он
как бы символически убивает его и всю свою родовую память о
нем. Ольшанский же – фамильный семит, становится
по-жириновски Янусовым черносотенцем, попирая память о предках,
возводясь в некий инобытийный своему недавнему детству ракурс. Ну,
чем не казус кукоцкого-ольшанского-брюсова? Главное же для
них для всех – отмыкнуть, неважно какой отмычкой, ту
магическую дверь заветной паблисити, которая, как кажется, даст
повод к безбедному существованию и магистральной удаче.
Топорность скроенной стратегии поведения может быть замечена в двух
этих людях. Да и Ольшанский тоже делает какие-то слабые
попытки к тому, чтобы стереть границу между собственной
реальной личностью и романтически-публицистическим образом,
сшиваемым им из подтирок того или иного перхотно-проханистого
кексогена. Шкала его иерархий - эстетических иерахий тоже зависит
от этого.
В.Т. Мне сложно судить, я мало слежу за живым журнальцем г-на
Ольшанского, абсолютно не осведомлен о его успехах…
Д.И. Да, разумеется, все это мрак запердюкий, я только к тому… Ведь
ради красного словца… и отца…
В.Т. Вот – опять Лакан вылезает!
Д.И. Помилосердствуй хоть ты…
В.Т. Ну, такая параллель должна льстить…
Д.И. Брюсову и Лакану.
В.Т. Бог с тобой. Конечно этому, как бишь его… Ольшанскому.
Но, возвращаясь к дискуссии… ведь за всем этим стоит та самая
заветная жажда тогО, чтобы твоя маленькая жизнь нашла читателя.
Вот мы приходим к жизнетексту. Я хочу, чтобы мою жизнь прочли
в том формате, который я преподнесу. И о ней должны начать
говорить. Жизнетворчество – это та ситуация, когда ты хочешь,
чтобы был читатель не только у твоих «сделанных» выпусков –
буквенных лепых текстов, но и у проекций самих реальных
жизнепоступков…
Д.И. Да. Кстати, в проводимых мною параллелях между Брюсовым и
Ольшанским не должен быть усматриваем мой какой-то особенный
отвязный постмодернизм, но лишь то, что я как-то не слишком
привык вести речь о Брюсове, как о литераторе пар экселланс.
Как, кстати, и о Мережковском. Я к сожалению не могу найти
слишком много не то что безупречных, но просто интересных
текстов у Брюсова и Мережковского… У Брюсова есть два-три
стихотворения, которые действительно хороши… Вирш «Творчество», еще
кое что… Но он совершенно не тем важен.
В.Т. Здесь ты хочешь сказать: вот они явно слабые литераторы, зато
они такие невъе***ные жизнетворцы...
Д.И. Они - суть объекты речи. Я сознательно убрал рассуждения об
успешности их эстетической продукции. Предпочитая говорить в
абстрагированном тоне «о людях-практиках». – О персоналиях,
которые пишут тексты и умудряются их публиковать.
В.Т. О прагматике, о прочитанности.
Д.И. Притом, что жизнетворчество дало примеры замечательной
эстетической успешности. Опыт Андрея Белого, с моей точки зрения –
такой пример – случай потрясающего литературного
эксперимента, который высится ныне русской модернистской глыбой на страх
прочим западным Прустам, Джойсам да Кафкам. А ведь Белый
всегда вышивал на своем флаге определенные координаты
жизнетворчества, на всех «фазах», так сказать, его бытийства.
В.Т. Притом, что, скажем, Джойс, совершенно не подпадающ
жизнетворческой парадигме. Так, он воздвиг целую дамбу между «собой» и
Литературой его пера….
Д.И. Несомненно.
В.Т. Каковы векторы влияния… Что окажется сильнее: буквенный текст
или поступковые дела? Возможно ли целокупно избежать в одном
из них влияния собрата?
Д.И. Здесь бы всплыла фигура Сорокина с его декларированным полным
нетождествием между его «буквами», его Литературой и его
телесами – его Жизнью. На всех перекрестках он не устает
утверждать, что он Сам и его текстуалии – это совершенно разные
вещи. Он говорил мне: «Я не расчленял трупы, не е**л маму, не
сношал покойниц, у меня было спокойное профессорское детство,
нужда в деньгах – даже она – пришла лишь лет в двадцать
восемь». Он отвечает на упреки в «расчлененке людей» : «Это не
люди - это буквы». И хорошо, что так, да? И таким образом, с
методологической точки зрения, он нам дает некие ориентиры,
не следовать которым мы не имеем права… И все же… На вопрос
въедливого журнализма по поводу фекальной темы он сообщал:
я попробовал, я не удержался и попробовал кал своей дочки, в
ее младенчестве. И в этом символическом действии произошел
тот самый смертоносный бодрийаровский обмен: жизнь подпала
литературности. Он перешел из одной ипостаси в другую, он
подпал собственному творчеству, не сумев избегнуть на все сто
процентов своего беллетризма.
В.Т. Я бы в качестве примера этого симбиозиса, постоянной подпитки
одного другим, привел другой образец – Владимира
Владимировича Набокова, который, как позже Сорокин, всегда заявлял, что
дескать нету ничего имманентно общего между ним – как
Человеком и его Вымыслом… Что Лолита – это чистой воды фантазм…
Что, все это происходит как бы не с ним. Тем не менее, я бы
говорил о том, что когда писатель принимается строить эту
притчевую стену, он замедляется как теург… Ведь на самом деле
все это единый организм, бытующий по «обе стороны книги».
Набоков, пытаясь заниматься собственной демистификацией,
показывая, дескать вот я, вот моя жена-Слоним, вот мой ребятенок
Дима, я совершенно обычен, таков, каким бы были вы, ваш сосед,
и так далее… Ничего экстраординарного, да?
Д.И. Да, Вад, но ведь всегда остаются набоковские тапочки. Ты же
знаешь этот казус, да, когда В.В. мистифицировал приходящего к
нему человека. Некий персонаж приходил к нему – чаще всего
этим человеком могла быть его единоутробная сестра, и Набоков
с нею общался, все нормально, но как бы невзначай, бросал
взгляд на стоящие под толстой шторой тапочки. Указуя на
крамолу сокрытия гипотетической любовницы, пришедшей в отсутствие
Веры, некой абстрактной Иры Гваданини… Или факт шкафного
шизоидного мистифицирования советских эмиссаров, обещавших ему
рукавишниковское поместье.
В.Т. К этому я и хотел, собственно, свести наше разглагольство.
Д.И. То есть, ты хочешь сказать, что он, как и Сорокин, подпадает…
В.Т. Конечно. Ведь, он, пытаясь выстроить эту незыблемую стену
затрачивает столь великие усилия, что в самом этом напряжении
укрывается жизнетворческий замес. А в плане Сорокина мне трудно
судить. Я далек от Владимира Георгиевича, да и не
стремлюсь, собственно….
Д.И. Если Сорокин все же не удален на сто пудов от жизнетворчествА,
если он накрыт этим делом, следовательно, мокрицы
истлевающей вагины г-жи Сотниковой, которую любил Санька, являются
теургическим бытом самого писателя. Он проповедует ЭТУ весть,
он часть ее экзистенции. Таким образом, Идущие в Кишкес
являются суть адептами именно жизнетворческого рассмотрения
сорокинской фигуры. Идущие говорят: Сорокин – есть то, что он
пишет, Сорокин аd hoc – жизнетворец. Осудим же его, как
распространителя порнолатрической взвеси... То есть, в изнанке
этого замша, Сорокин должен дать социуму ответ за те
отвратительные первертные мифо-миры, каковые он породил в своих
текстах. Ведь человек должен быть тотально ответствен за свои
поступки. А в жизнетворчестве грань между текстуальностью
поступков убывает на нет.
В.Т. Я же хотел сказать, что Набоков, все время развенчивая этот
миф, предполагающий, что он является нимфоманом, или Цинцинатом
сам не уберегается от харизмы, происходящей оттуда…
Д.И. И все же англоидный Хамберт Хамберт – фигура набоковски
осужденная, гадостная, в самой ее фонетике сокрыт Грядущий Хам,
уродство жизни. Фигура набоковски антипатичная.
В.Т. Я бы хотел подчеркнуть, что Набоков, пытаясь концептуально
избежать жизнетворчества, на самом деле только и делает, что
занимается этим изнанковым жизнетворчеством. Ад абсурдум.
Д.И. Ад либитум. В читательском смысле. Ибо читателю бы хотелось
видеть в Набокове часть его беллетрического нарратива.
В.Т. Его неприятие венской делегации, вражда к Фрейду – это часть
той же борьбы с жизнетворчеством, ибо Фрейд чаще всего
полагает художника, растворенного в массе своих текстов,
литературу, смыкающуюся с жизнью автора, хоть бы и психической.
Достоевский для Фрейда и Набокова был обычным жизнетворцем,
стыдливо и нечестно не декларирующим этого. Отцеубийство и прочие
прелести.
Д.И. У Игоря Павловича Смирнова, на свой лад развивающего
лотмановские идеи, Пушкин не просто создает свои биографический миф,
но входит в такие странные сферы… Кастрационный комплекс у
Пушкина… Ученик Смирнова – Эткинд, со своим Золотым Петушком
тоже вливается сюда…
В.Т. Брюсов, вставляя свое жизнетворчество в русский грунт, на самом
деле, лишь открыл лежащую на поверхности топику ординарного
литературного быта. Нельзя уклоняться от этого
жизнетворческого кокона. Возьмем, к примеру, недавноопубликованный роман
Дмитрия Бавильского…
Д.И. Кто это такой, кстати? Поясни?
В.Т. Ну, это такой литературный критик… Он еще тебя привел в Русский
Журнал, неужели запамятовал? Ну? Вспоминаешь, вижу по
глазам. Его последний роман – «Семейство Пасленовых». В его
интервью на радио Свобода, данное Дмитрию Волчеку, он пытается
отмежеваться от бытовой подоплеки романа, дает какие-то
примеры…
Д.И. Неужто? Как же так? Разве «Семейство пасленовых» никак не
связано с жизнью конкретного челябинского Димы Бавильского?
В.Т. Естественно связано, да и он не может это так нахрапом все
отрицать… Но это жизнетворчество, несомненно. И в его этой
околомистификационной работе тоже. Ведь он уже вынес на
читательский суд некое пограничье того, что по сути происходило, в
конкретное время, с конкретными людьми.
Д.И. Насколько я знаю, г-н Бавильский всегда не уставал говорить о
той реальной жизненной подоплеки, которая способствовала
собственно возникновению этого популярного текста, которыЙ, к
слову сказать, будет издан Галлимаром… То есть, речь должна
идти о некоем конкретном амстердамском и барселонском трипе
(это любимые пасленовые города), предшествующем письму.
В.Т. Несомненно, что далее в статьях и интервью происходило некое
отмежевание от всего этого. Многие сейчас начинают говорить,
что этот роман порочен, порнографичен…
Д.И. Кто? Явки, имена?
В.Т. Это произносится в какой-то анонсировавшейся Димой критике…
Говорится в частности, о том, что роман этот грязен, что там
описываются некие морально нечистые вещи…
Д.И. Нечистоты бавильских телес…
В.Т. Что это – отнюдь НЕ чистая любовь, прекрасноликая сфера идеального.
Д.И. Какие нечистоты после освенцимового Адорно? Какие нечистоты
после Сорокина?! Несколько глупо обвинять нежного, мягкого Диму
в грязи и порнографии, когда за окном такие Масодовы и
Мамлеевы творят свой типажный вертеп…
В.Т. Дима и в жизни и в интервью говорит о незамутненности чувств.
Об искренности. Менаж а труа, но взятый в идеальном смысле,
да?
Д.И. Ну, не знаю… Для меня, как для радикалиста, любой «брак втроем»
должен упираться к одновременной пенетрации двух
самостоятельных (по-радовски) заелдыз-фаллов - в два увлажнено-смежных
отверстия релевантной женщины. Кажется, такого у них не
происходило там – Между Ингваром и Дамиром. То есть, тут могло
бы быть полезным вспомнить Маяковский треугольный опыт. Ибо,
Владимир Владимирович одновременно с Осей ни разу не е**и
Лилю Каган. Не simultaneously. Напротив, как вспоминает
Вознесенский, позднейшие россказни старухи-Лили, она в
Гендриковом оглушительно сношалась с Осей, а Маяк царапался за дверью
и скулил, будучи недопущенным к Телу Страсти. Маяковский как
страстотерпец. У Бавильского ведь все достаточно
целомудренно….
В.Т. Да, именно это слово и используется: целомудренность. Но это
хотят опровергнуть злобные критики.
Д.И. Дима не запятнан этой грязью. У него, тем не менее, как мне
кажется, происходит некое смешение жанров: с одной стороны он
не может отрицать супертвердый реальный замес, лежащий в
основе романа, с другой стороны, проступает позднейшая
индульгирующая обиняковость, призванная защитить Бавильмана от
злопыхателей Большой Критики. Автор «Семейства Пасленовых»
неконцептуален в своем жизнетворчестве, он лимериково полумерен и
отчасти лжив. Над вымыслом он обливается крокодиловыми
слезами, помнит Елену Шварц, ее манящую плоть, животный женский ил
ее приветствий: «Дима, спасибо Вам за попытку понять меня».
Эх, боюсь нас он не отблагодарит за то же самое… Хотя… Но
всем тем, кто соприкоснулся с реальным Димой, становится
стопудово понятно, что там у него имеет место быть старый
Чернышевский феномен отношений искусства к действительности.
Перетекание жизненных практик в художественный текст. Себеотика
поведения Н.Г.Ч. по Ирине Паперно.
В.Т. У меня была веселая мысль, когда я встречался в Москве с
героиней романа «Семейства пасленовых», сделать некое такое
интервью... Интервью с Героиней романа.
Д.И. Это с Принцессой-то? Мысль превосходная, жаль, ты ее не
реализовал… В свое время, Дима обратился к Элине Войцеховской и ко
мне – надписать два полновесных предисловия к этому роману.
Позже эта идея была похерена издательством. Так вот, там я
собирался описать Бавильского в ракурсе Николая Гавриловича
Чернышевского. Я усматривал связь между способом прочтения
Что Делать?, сделанным берклийской профессоршей Ириной
Паперно, предполагающим насыщенную знаковость поведения автора в
контексте сопологаемых ему нарративных структур. Как мне
кажется, Бавильский – это современный идеальный пример
подспудного утописта-Чернышевского в законорожденном своем действии.
Он руководствуется теми же милыми наивными принципами, так же
страдает от позиционного блядства не Ольги Сократовны, но,
скажем, твоей знакомой Принцессы, которая с одной стороны,
как бы очень (по-женски) чиста, в его понимании, с другой же
– явственно подпала блуду, ибо регулярно вагинально общается
с Ингваром, а он уж – фигура совсем запредельная. Так вот,
этот сексуальный жизнетворческий утопизм – то, что может
объединить фигуры Чернышевского и Бавильского. При том, что
пишет Дима, явно лучше.
И все же для меня – Дима – это певец Нового Эротического Быта, по
сути – новый Чернышевский. Не думаю, чтобы он слишком
воодушевился от этой идеи, прочтя ее описание на этих страницах, но
тем не менее, проартикулировать ее здесь считаю своим
историческим долгом.
В.Т. Вообще же жизнетворчество – всегда предполагает утопический
дискурс. Утопия, которая пишется живой теплотой крови всякого
автора. Твой жизнетекст – отнюдь не кусок Нормы, не кусок
засранного бумажного брикета, но нечто возвышенно-пушистое и
позитивно ощутимое.
Д.И. И Бавильский не кушает Норму, он вкушает нежный марципан, его
переводят на разные европейские языки, Галлимар сохнет по
нему, жизнь удалась.
В.Т. При том, на обложке его анонсируют значимые персоналии…
Д.И. Да, Дима пользуется славой Курицына… Хо, опять я за старую омонимичность…
В.Т. Да нет, не так уж и пользуется… Но, просто отзыв Сорокина на
бавильской обложке – это вербатиумная копия отзыва Набокова о
«Школе для Дураков». Сорокин сильно посмеялся, а это ведь
мало кто понял. Дима не заметил, думаю…
Д.И. Хорошее дело выходит: Я Бавильского к Чернышевскому креню, а ты
вдруг ему тулишь лавры Соколова, с которым, как известно
плотно общался в по-тельавивски книжной лавке Александр
Гольдштейн…
В.Т. Оставим кроликов, но цитата остается цитатой.
Д.И. Переходя к идее Абсолюта…
В.Т. Нет, у нас уже опустели рюмки, мы, боюсь, уже ни к какому
абсолюту перейти не сможем, максимум – выйдем за покупным в
давешнюю лавку….
Д.И. Те энергийные нити, которые питают наш Космос, кастанедийские
паучки, отверзающие нам возможность дышать и жить – вот то,
чего мне не хватает в Бавильском, как и в бороде пророка...
В.Т. Ты хочешь семантически возвести историческую идею Души к
Богу. Это кульбит. Хотя, телеологически и небесполезный.
Д.И. Душа - не научный термин, к сожалению… Вызывающе ненаучный. Как
психологизм в литературной критике. Душа – не термин для
разговора. Мы не можем так плодотворно рассуждать…
В.Т. Под «нами» ты имеешь в виду «Homo Sapiens»?
Д.И. Нет, скорее Homo Somatikos – Человека Телесного, подпавшего
тому самому коварному ГУЛАГу тела, о котором мне говорил
Сорокин. Не так давно вышла любопытная книга в издательстве
Эдиториал УРСС – «Homo Somatikos: Аксиология человеческого тела»
Ирины Марковны Быховской. Наше вячеславоположенное умное
деланье напрямую зависит от нашей же телесности. Кроме тогО, не
так уж плохо быть Соматикосом – телом, имманентно обладающим
тем самым загадочным ведическим грибом Сомой, о котором
столько пишут-спорят (и грибы ведь когда спорами сорят –
по-своему спорят!) разные ученые мужи… Это, разумеется, Целан,
досужий омонимизм моревых гронасов: не нам его пежить. Нас не
заманит этот пустопорожий шмырк, шмырк грибовный.
В.Т. Жизнетворчество невозможно среди рогатого поголовья зыби. Где
же Женщина, Сашуры-на Жена облеченная в солнце, без нее не
бывать полноте текстовых практик, не омисогиниться… Любопытно,
что все русскоязыкие певцы по-блочьи незнакомковых б***ей,
эти тобой воспетые адепты «духовного брака с блядью у
камелька», неизменно оказываются «Сашурами» и ветрогонами…
Д.И. Но, уже нет женщины, наш идеал становится оскоминно-
андрогинен, выклевывается Тот бердяевский, элиаденский божественный
п**дох*й, сочетающий в себе оба органа, счастливо избегающий
любовной романтики. Но, ведь не об этом речь.
В.Т. Теперь, итожа эти наши пол-разговорца: жизнетворчество
самочитаемо, мы бываем автодемиурги, но и самопрофаны, тулупы мы,
лосевские лифы, плодоносящие черенки лопаты, неминуемо
закапывающей своего держателя. Нам перестает быть нужен
избито-внешний Абсолют. Мы, все же, выведем себя за скобки этого
уравнения.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

