Критический обзор германской философии от Канта до Хайдеггера
 Кант. Явление Канта – наиболее значительная веха в истории мировой философии. Значение переворота, произведенного Кантом в сознании, настолько велико, что всю философию можно разделить на докантовскую и послекантовскую. Все без изъятия последыши Канта так или иначе выступили изменниками его наследия, что во многом и обусловило то, что философия сегодня пребывает на распутье. Я убежден, что начало третьего периода в истории мировой философии будет ознаменовано исполнением заветов Канта. Наиболее значительным кантовским заветом, касающимся отношения к человеку не как к средству, а как к цели самой по себе, так или иначе пренебрегли все последовавшие за Кантом мыслители. Это и позволило постмодернистам констатировать факт дегуманизации человека. Однако если чем Кант и запомнится навеки в истории философии, так это различением явления и вещи самой по себе, в котором заключена вечная истина. Доселе значение Канта хотели соизмерить с позиции гносеологии и этики, но мало кто при этом заострил внимание на Канте-антропологе. Но прежде этого следует произвести доскональный критический обзор кантовского наследия. Ахиллесовой пятой кантовской философии следует признать то, что Кант блокировал подступ к постижению подлинного мира, мира умопостигаемого, т.е. мира вещей самих по себе. "Вещь в себе" следует признать неудачей русскоязычного перевода Канта, от которого сам Кант едва ли был бы в восторге. Это исподволь откладывает на его великую мысль печать некой оккультности, усугубляющей непонимание его чрезвычайно путанной и в целом туманной философии. Но и менее удачным следует признать само именование ноумена "вещью самой по себе", которая в самом деле не есть вещь, а нечто всецело от нее отличное. Однако же Канта интересует то, каков мир сам по себе, отчего "явление" у него всегда есть явление чего-то, а именно вещи самой по себе. В этом состоит величайший недочет кантовской философии, впервые наиболее отчетливо обозначенный Шопенгауэром, который, как будет показано ниже, в итоге заключил тем же самым недочетом. Может создаться впечатление, что Кант в философии - оппортунист, который исподволь угождает то одним, то другим. Это объясняется тем, что уже в трансцендентальной эстетике, по праву считающейся наиболее прославленным сочинением Канта, содержание опыта дается вещью самой по себе. В таком случае вещь сама по себе оказывается чем-то вполне объективным, что и вызывает справедливое негодование Шопенгауэра. Также Канта, как теоретика науки, интересует, что может сообщить опыту всеобщность и необходимость. Он справедливо находит условие таковых в форме, а не в содержании опыта, но из этого делает поспешный вывод, что форма опыта, содержащая в себе a priori, дается трансцендентальным, а не эмпирическим сознанием – не познающим индивидом, а субъектом вообще. Позже это послужило Фихте поводом к тому, чтобы мнимо априорным путем дедуцировать материю из сознания, хотя Кант менее всего мог понимать суть дела именно таким образом. Категория причинности априорна, поэтому она не может быть отнесена к вещи самой по себе, а также не может служить объяснению явления как такового. Однако неопределенность Канта по вопросу о познаваемости ноумена исподволь создала пролог к тому, чтобы в последующем гипостазировать причинность, а вместе с ней время и пространство, и тем самым осуществить возврат к развенчанному Кантом догматизму, на котором испокон века и держался наивный реализм и объективизм. Запутывает кантовское определение чувственности, рассудка и разума. У Канта чувственный синтез есть нечто вполне независимое от рассудка, а потому и производимое непосредственным образом. Отсюда становится возможным постулировать математику как созерцание времени и пространства, ибо если время и пространство не имеют необходимой связи с категорией причинности, то они являются не коррелятами рассудка, а формами чувственности, что и показывается Кантом. Формой внутреннего чувства, о которой говорит Кант, может быть лишь дискретное время, которое сопряжено с уникальным и неповторимым присутствием в мире явлений отдельно взятого человека, но никак не всеобщее и необходимое условие опыта. Наперед замечу, что это внутреннее чувство относится уже не к чувственности и не к интеллекту, а к воле, в которой я нахожу также и познавательную способность, а именно эстетическую интуицию. Эстетическая интуиция есть то, что именовалось мистиками "сердечным умом". Рассудок у Канта и вовсе оказывается способностью понятий, которой, в самом деле, является разум. Здесь должно заметить, что Кант озадачивает себя прежде всего критикой спекуляции, почему и принимает за отправную точку устоявшееся до него понимание разума. Но самое удивительное то, что Кант, блокируя подступ к постижению ноумена, хочет во что бы то ни стало обосновать возможность синтетических суждений a priori в математике и естествознании, что явно выдает профессиональный интерес Канта как естествоиспытателя. Дух сциентизма новых веков сказался здесь сильнее всего, равно как и в наукообразной манере философствования Канта, которая позже возымела свой закономерный апофеоз у Гегеля. Математика, разумеется, есть чистая наука, но имеющая необходимую связь со всеобщими и необходимыми истинами логики, поэтому она должна быть признана аналитической, а не синтетической наукой, что позже было верно отмечено неокантианцами. Научная картина мира непостоянна, подвижна и неустойчива, поэтому теоретические основоположения естествознания обязаны иметь мерилом своей истинности опыт. Вопреки Канту, я утверждаю, что синтетическим суждениям a priori не свойственна всеобщность и необходимость, поэтому они целиком и полностью должны быть отнесены к религии и философии, но никак не к науке. Что же касается новизны научного знания, то она всегда и только может черпаться лишь из опыта. Намного важнее то, что, по слову Шопенгауэра, если до Канта мы были во времени и пространстве, то после Канта время и пространство оказались в нас. Учение о трансцендентальной иллюзии - изумительно. Разум, притязая на то, чтобы покинуть пределы чувственности, неизбежно порождает химеры, принимая явления за вещи сами по себе. Химеры умозрения - это и есть "сон разума, рождающий чудовищ". Без них невозможно представить себе сколь бы то ни было твердого объективизма, почему Мендельсон, этот последний из спящих, как отозвался о нем Шопенгауэр, и назвал Канта "всеразрушителем". Мне видится так, что Гегель, этот апостол объективизма, до последнего испытывал ненависть к Канту, хотя и не решался вслух ее озвучить ввиду слишком значительной величины его имени, потому что Гегелю были очень дороги опровергнутые Кантом "доказательства", без которых панлогизм рушится подобно карточному домику. С этих позиций и следует понимать кантовскую критику доказательств бытия Божьего, которая покончила с teologia naturalis схоластов. Но теперь у Канта профессиональный интерес естествоиспытателя заступает конфессиональный интерес пиетиста: ему требуется опровергнуть доводы разума лишь для того, чтобы освободить место вере, поэтому постулаты умозрения у него становятся нравственными постулатами. Можно иронически заметить, что если до Канта этика была зависима от Бога, то после Канта именно Бог стал зависим от этики. Николай Бердяев замечает, что пусть это и парадоксально, но у Канта подлинное знание возможно лишь неподлинного мира, мира явлений, в то время как подлинный мир, мир вещей самих по себе, остается закрытым для постижения, ему отводятся лишь нравственные постулаты. Никакая будущая метафизика, если она и вправду хочет быть таковой, отныне уже невозможна без Канта, но Кант ложно относит метафизику к науке, и в этом состоит его заблуждение. Однако я не менее согласен с Бердяевым и в том, что основной интерес у Канта - это интерес не гносеологический и даже не этический, а метафизический. Кант мечтает во что бы то ни стало "спасти свободу" от чудовищно давящей тяжести мира явлений, к человеку безразличного и человека отрицающего, и предпринимает все возможное ради этого спасения, чтобы вместе с тем спасти достоинство человека. Никто не может претендовать на сколь бы то ни было целостное понимание Канта, если не уразумеет себе, что именно в этом состоит ключ к пониманию его непреходящего в своем значении явления. Свободу нельзя спасти, если в опыте нам даны не явления, а вещи сами по себе, ибо, в противном случае, человек оказывается лишь случайной рябью на теле вселенной, которая нещадно и бесследно будет слизана разрушительным потоком времени. Таков, пожалуй, единственный резон к тому, чтобы признать мир явлений ирреальным, в отличие от подлинно реального мира вещей самих по себе. Мне совершенно чужд и нетерпим этический формализм Канта, который исподволь влил новое вино в ветхие меха морализма, дотоле имевшего религиозную санкцию, но учение об автономии воли я нахожу гениальным. Интеллект определяется извне, эмоциями, страстями и чувствованиями человека, воля же есть самоопределение. Но Кант, на схоластический манер, смешивает волю с "практическим разумом", что упраздняет на самом деле автономию воли, голословно сводя ее к повиновению общеобязательному нравственному закону. Я убежден, что Кант - самый нечеловечный из философов, и в этом состоит его заслуга. Это требует объяснения. Кант не менее патетически, чем Достоевский или Ницше, переживает катастрофу человека, но при этом понимает, что предметом веры и надежды может быть лишь человек умопостигаемый, а не человек эмпирический, который слишком безнадежен для того, чтобы верить, вслед за мечтателем Руссо, в его прирожденную и естественную "доброту". В этом Кант - наследник истинного гуманизма, гуманизма Ренессанса, который уместнее называть супрагуманизмом, нежели просто гуманизмом. Философ непременно должен быть не человечным, а нечеловечным, ибо человечность обязательно оборачивается бесчеловечностью, которая стала горьким довеском просвещенческого гуманизма. Ницшеанский "сверхчеловек", который, по большому счету, представляет собою не более чем гротескную пародию на гиперборейца, человека духа, и есть умопостигаемый человек Канта, величайший из всех образчиков которого уже был явлен божественным образом Спасителя - если, конечно же, принимать к сведению не исторический, а мифический облик Иисуса Христа. Кант уже задолго до Ницше приступил к опыту "философствования молотком", однако его непоследовательность в этом деле обернулась роковыми последствиями, которые не замедлили себя явить. Теперь же я перехожу к критике Фихте.
Кант. Явление Канта – наиболее значительная веха в истории мировой философии. Значение переворота, произведенного Кантом в сознании, настолько велико, что всю философию можно разделить на докантовскую и послекантовскую. Все без изъятия последыши Канта так или иначе выступили изменниками его наследия, что во многом и обусловило то, что философия сегодня пребывает на распутье. Я убежден, что начало третьего периода в истории мировой философии будет ознаменовано исполнением заветов Канта. Наиболее значительным кантовским заветом, касающимся отношения к человеку не как к средству, а как к цели самой по себе, так или иначе пренебрегли все последовавшие за Кантом мыслители. Это и позволило постмодернистам констатировать факт дегуманизации человека. Однако если чем Кант и запомнится навеки в истории философии, так это различением явления и вещи самой по себе, в котором заключена вечная истина. Доселе значение Канта хотели соизмерить с позиции гносеологии и этики, но мало кто при этом заострил внимание на Канте-антропологе. Но прежде этого следует произвести доскональный критический обзор кантовского наследия. Ахиллесовой пятой кантовской философии следует признать то, что Кант блокировал подступ к постижению подлинного мира, мира умопостигаемого, т.е. мира вещей самих по себе. "Вещь в себе" следует признать неудачей русскоязычного перевода Канта, от которого сам Кант едва ли был бы в восторге. Это исподволь откладывает на его великую мысль печать некой оккультности, усугубляющей непонимание его чрезвычайно путанной и в целом туманной философии. Но и менее удачным следует признать само именование ноумена "вещью самой по себе", которая в самом деле не есть вещь, а нечто всецело от нее отличное. Однако же Канта интересует то, каков мир сам по себе, отчего "явление" у него всегда есть явление чего-то, а именно вещи самой по себе. В этом состоит величайший недочет кантовской философии, впервые наиболее отчетливо обозначенный Шопенгауэром, который, как будет показано ниже, в итоге заключил тем же самым недочетом. Может создаться впечатление, что Кант в философии - оппортунист, который исподволь угождает то одним, то другим. Это объясняется тем, что уже в трансцендентальной эстетике, по праву считающейся наиболее прославленным сочинением Канта, содержание опыта дается вещью самой по себе. В таком случае вещь сама по себе оказывается чем-то вполне объективным, что и вызывает справедливое негодование Шопенгауэра. Также Канта, как теоретика науки, интересует, что может сообщить опыту всеобщность и необходимость. Он справедливо находит условие таковых в форме, а не в содержании опыта, но из этого делает поспешный вывод, что форма опыта, содержащая в себе a priori, дается трансцендентальным, а не эмпирическим сознанием – не познающим индивидом, а субъектом вообще. Позже это послужило Фихте поводом к тому, чтобы мнимо априорным путем дедуцировать материю из сознания, хотя Кант менее всего мог понимать суть дела именно таким образом. Категория причинности априорна, поэтому она не может быть отнесена к вещи самой по себе, а также не может служить объяснению явления как такового. Однако неопределенность Канта по вопросу о познаваемости ноумена исподволь создала пролог к тому, чтобы в последующем гипостазировать причинность, а вместе с ней время и пространство, и тем самым осуществить возврат к развенчанному Кантом догматизму, на котором испокон века и держался наивный реализм и объективизм. Запутывает кантовское определение чувственности, рассудка и разума. У Канта чувственный синтез есть нечто вполне независимое от рассудка, а потому и производимое непосредственным образом. Отсюда становится возможным постулировать математику как созерцание времени и пространства, ибо если время и пространство не имеют необходимой связи с категорией причинности, то они являются не коррелятами рассудка, а формами чувственности, что и показывается Кантом. Формой внутреннего чувства, о которой говорит Кант, может быть лишь дискретное время, которое сопряжено с уникальным и неповторимым присутствием в мире явлений отдельно взятого человека, но никак не всеобщее и необходимое условие опыта. Наперед замечу, что это внутреннее чувство относится уже не к чувственности и не к интеллекту, а к воле, в которой я нахожу также и познавательную способность, а именно эстетическую интуицию. Эстетическая интуиция есть то, что именовалось мистиками "сердечным умом". Рассудок у Канта и вовсе оказывается способностью понятий, которой, в самом деле, является разум. Здесь должно заметить, что Кант озадачивает себя прежде всего критикой спекуляции, почему и принимает за отправную точку устоявшееся до него понимание разума. Но самое удивительное то, что Кант, блокируя подступ к постижению ноумена, хочет во что бы то ни стало обосновать возможность синтетических суждений a priori в математике и естествознании, что явно выдает профессиональный интерес Канта как естествоиспытателя. Дух сциентизма новых веков сказался здесь сильнее всего, равно как и в наукообразной манере философствования Канта, которая позже возымела свой закономерный апофеоз у Гегеля. Математика, разумеется, есть чистая наука, но имеющая необходимую связь со всеобщими и необходимыми истинами логики, поэтому она должна быть признана аналитической, а не синтетической наукой, что позже было верно отмечено неокантианцами. Научная картина мира непостоянна, подвижна и неустойчива, поэтому теоретические основоположения естествознания обязаны иметь мерилом своей истинности опыт. Вопреки Канту, я утверждаю, что синтетическим суждениям a priori не свойственна всеобщность и необходимость, поэтому они целиком и полностью должны быть отнесены к религии и философии, но никак не к науке. Что же касается новизны научного знания, то она всегда и только может черпаться лишь из опыта. Намного важнее то, что, по слову Шопенгауэра, если до Канта мы были во времени и пространстве, то после Канта время и пространство оказались в нас. Учение о трансцендентальной иллюзии - изумительно. Разум, притязая на то, чтобы покинуть пределы чувственности, неизбежно порождает химеры, принимая явления за вещи сами по себе. Химеры умозрения - это и есть "сон разума, рождающий чудовищ". Без них невозможно представить себе сколь бы то ни было твердого объективизма, почему Мендельсон, этот последний из спящих, как отозвался о нем Шопенгауэр, и назвал Канта "всеразрушителем". Мне видится так, что Гегель, этот апостол объективизма, до последнего испытывал ненависть к Канту, хотя и не решался вслух ее озвучить ввиду слишком значительной величины его имени, потому что Гегелю были очень дороги опровергнутые Кантом "доказательства", без которых панлогизм рушится подобно карточному домику. С этих позиций и следует понимать кантовскую критику доказательств бытия Божьего, которая покончила с teologia naturalis схоластов. Но теперь у Канта профессиональный интерес естествоиспытателя заступает конфессиональный интерес пиетиста: ему требуется опровергнуть доводы разума лишь для того, чтобы освободить место вере, поэтому постулаты умозрения у него становятся нравственными постулатами. Можно иронически заметить, что если до Канта этика была зависима от Бога, то после Канта именно Бог стал зависим от этики. Николай Бердяев замечает, что пусть это и парадоксально, но у Канта подлинное знание возможно лишь неподлинного мира, мира явлений, в то время как подлинный мир, мир вещей самих по себе, остается закрытым для постижения, ему отводятся лишь нравственные постулаты. Никакая будущая метафизика, если она и вправду хочет быть таковой, отныне уже невозможна без Канта, но Кант ложно относит метафизику к науке, и в этом состоит его заблуждение. Однако я не менее согласен с Бердяевым и в том, что основной интерес у Канта - это интерес не гносеологический и даже не этический, а метафизический. Кант мечтает во что бы то ни стало "спасти свободу" от чудовищно давящей тяжести мира явлений, к человеку безразличного и человека отрицающего, и предпринимает все возможное ради этого спасения, чтобы вместе с тем спасти достоинство человека. Никто не может претендовать на сколь бы то ни было целостное понимание Канта, если не уразумеет себе, что именно в этом состоит ключ к пониманию его непреходящего в своем значении явления. Свободу нельзя спасти, если в опыте нам даны не явления, а вещи сами по себе, ибо, в противном случае, человек оказывается лишь случайной рябью на теле вселенной, которая нещадно и бесследно будет слизана разрушительным потоком времени. Таков, пожалуй, единственный резон к тому, чтобы признать мир явлений ирреальным, в отличие от подлинно реального мира вещей самих по себе. Мне совершенно чужд и нетерпим этический формализм Канта, который исподволь влил новое вино в ветхие меха морализма, дотоле имевшего религиозную санкцию, но учение об автономии воли я нахожу гениальным. Интеллект определяется извне, эмоциями, страстями и чувствованиями человека, воля же есть самоопределение. Но Кант, на схоластический манер, смешивает волю с "практическим разумом", что упраздняет на самом деле автономию воли, голословно сводя ее к повиновению общеобязательному нравственному закону. Я убежден, что Кант - самый нечеловечный из философов, и в этом состоит его заслуга. Это требует объяснения. Кант не менее патетически, чем Достоевский или Ницше, переживает катастрофу человека, но при этом понимает, что предметом веры и надежды может быть лишь человек умопостигаемый, а не человек эмпирический, который слишком безнадежен для того, чтобы верить, вслед за мечтателем Руссо, в его прирожденную и естественную "доброту". В этом Кант - наследник истинного гуманизма, гуманизма Ренессанса, который уместнее называть супрагуманизмом, нежели просто гуманизмом. Философ непременно должен быть не человечным, а нечеловечным, ибо человечность обязательно оборачивается бесчеловечностью, которая стала горьким довеском просвещенческого гуманизма. Ницшеанский "сверхчеловек", который, по большому счету, представляет собою не более чем гротескную пародию на гиперборейца, человека духа, и есть умопостигаемый человек Канта, величайший из всех образчиков которого уже был явлен божественным образом Спасителя - если, конечно же, принимать к сведению не исторический, а мифический облик Иисуса Христа. Кант уже задолго до Ницше приступил к опыту "философствования молотком", однако его непоследовательность в этом деле обернулась роковыми последствиями, которые не замедлили себя явить. Теперь же я перехожу к критике Фихте.
 Фихте. Мною уже было замечено, что Фихте мнимо априорным путем дедуцирует материю из трансцендентального сознания. Это стало возможным лишь потому, что вместе с водой Фихте выплеснул из ванны и ребенка, отбросив вещь саму по себе, эту сокровищницу кантовской мысли. Тем самым Фихте создал пролог к тому, чтобы сначала Шеллинг, а затем Гегель реанимировали объективизм, в чем они никоим образом не могли опереться на Канта. Но Фихте, не в пример Шеллингу и Гегелю, знает все непреходящее значение субъектности, которая покоится на воле как способности самоопределения, в отличие от интеллекта. Волюнтаризм Шопенгауэра черпает свои истоки не только у Канта, но также и у Фихте, отчасти у Шеллинга. Только этим может быть объяснена, хотя и не оправдана, площадная брань Шопенгауэра в адрес этих выдающихся последышей Канта. У Фихте полагание не-Я есть неразделенный волевой акт трансцендентального Я, и это у него, пожалуй, самое замечательное. Но прощание с вещью самой по себе возымело роковые последствия. Фихте, равно как и Кант, терзается необходимостью мировой данности, как ее называет Бердяев, он не мирится с нею и менее всего мог, вслед за Спинозой и Гегелем, признать свободу эпифеноменом необходимости. Однако если не-Я априорным путем дедуцируется из Я, то из этого неизбежно следует, что Я имплицитно содержит в себе необходимость самопознания. Сначала Шеллингу, а затем уже и Гегелю осталось только довершить начатое Фихте.
Фихте. Мною уже было замечено, что Фихте мнимо априорным путем дедуцирует материю из трансцендентального сознания. Это стало возможным лишь потому, что вместе с водой Фихте выплеснул из ванны и ребенка, отбросив вещь саму по себе, эту сокровищницу кантовской мысли. Тем самым Фихте создал пролог к тому, чтобы сначала Шеллинг, а затем Гегель реанимировали объективизм, в чем они никоим образом не могли опереться на Канта. Но Фихте, не в пример Шеллингу и Гегелю, знает все непреходящее значение субъектности, которая покоится на воле как способности самоопределения, в отличие от интеллекта. Волюнтаризм Шопенгауэра черпает свои истоки не только у Канта, но также и у Фихте, отчасти у Шеллинга. Только этим может быть объяснена, хотя и не оправдана, площадная брань Шопенгауэра в адрес этих выдающихся последышей Канта. У Фихте полагание не-Я есть неразделенный волевой акт трансцендентального Я, и это у него, пожалуй, самое замечательное. Но прощание с вещью самой по себе возымело роковые последствия. Фихте, равно как и Кант, терзается необходимостью мировой данности, как ее называет Бердяев, он не мирится с нею и менее всего мог, вслед за Спинозой и Гегелем, признать свободу эпифеноменом необходимости. Однако если не-Я априорным путем дедуцируется из Я, то из этого неизбежно следует, что Я имплицитно содержит в себе необходимость самопознания. Сначала Шеллингу, а затем уже и Гегелю осталось только довершить начатое Фихте.
 Шеллинг. Ранний Шеллинг еще опирается на Фихте, выстраивая метафизику Я, но затем намечается поворот спиной к Канту и обращение лицом к Спинозе. По ту сторону противоположения субъекта и объекта, которое поначалу снималось Шеллингом в Я, мнимо априорным путем высвечивается их безразличие. Но если субъективность и объективность есть гносеологические позиции, безразличием которых выступает объектность как таковая, то их противоположение может быть снято по-настоящему лишь в субъектности, актом которой как раз и полагается оппозиция Я и не-Я. Таковое упущение в истории германской мысли было возможно лишь потому, что вещь сама по себе, не без помощи Канта, чрезвычайно запутавшего ее определение, была отброшена, а это не могло не повлечь за собою отождествление идеального и реального, где реальное, вслед за Спинозой, было отнесено к материи, а идеальное - к сознанию. У Шеллинга материя есть дремлющий дух, а дух - пробудившаяся материя. Дух отождествляется с сознанием, а природа, которая и есть безразличие сознания и материи, односторонне отождествляется с материей. На финальном отрезке своего интеллектуального пути Шеллинг относит безразличие сознания и материи, поначалу определенное им как абсолют, постигаемый интеллектуальной интуицией, к Ungrund, о котором учит Я. Бёме. Это верно, с тою лишь разницей, что бессознательная, дремлющая в безднах небытия, воля не может быть определением вещи самой по себе, как это будет утверждать Шопенгауэр, обязанный своей мыслью и Шеллингу. Трансцендентальная воля суть воля сверхсознательная, а не бессознательная, которая всегда и только есть воля эмпирическая, хотя еще и дремлющая, в отличие от сознательного веления, опосредованного интеллектом. Это обстоятельство позже будет упущено Николаем Бердяевым, учение которого о "несотворенной свободе" наследует волюнтаризму германской философии.
Шеллинг. Ранний Шеллинг еще опирается на Фихте, выстраивая метафизику Я, но затем намечается поворот спиной к Канту и обращение лицом к Спинозе. По ту сторону противоположения субъекта и объекта, которое поначалу снималось Шеллингом в Я, мнимо априорным путем высвечивается их безразличие. Но если субъективность и объективность есть гносеологические позиции, безразличием которых выступает объектность как таковая, то их противоположение может быть снято по-настоящему лишь в субъектности, актом которой как раз и полагается оппозиция Я и не-Я. Таковое упущение в истории германской мысли было возможно лишь потому, что вещь сама по себе, не без помощи Канта, чрезвычайно запутавшего ее определение, была отброшена, а это не могло не повлечь за собою отождествление идеального и реального, где реальное, вслед за Спинозой, было отнесено к материи, а идеальное - к сознанию. У Шеллинга материя есть дремлющий дух, а дух - пробудившаяся материя. Дух отождествляется с сознанием, а природа, которая и есть безразличие сознания и материи, односторонне отождествляется с материей. На финальном отрезке своего интеллектуального пути Шеллинг относит безразличие сознания и материи, поначалу определенное им как абсолют, постигаемый интеллектуальной интуицией, к Ungrund, о котором учит Я. Бёме. Это верно, с тою лишь разницей, что бессознательная, дремлющая в безднах небытия, воля не может быть определением вещи самой по себе, как это будет утверждать Шопенгауэр, обязанный своей мыслью и Шеллингу. Трансцендентальная воля суть воля сверхсознательная, а не бессознательная, которая всегда и только есть воля эмпирическая, хотя еще и дремлющая, в отличие от сознательного веления, опосредованного интеллектом. Это обстоятельство позже будет упущено Николаем Бердяевым, учение которого о "несотворенной свободе" наследует волюнтаризму германской философии.
 Гегель. В философии Гегеля отступление от Канта и возвращение к спинозизму достигает своего предельного выражения. Самое значительное у него - это тезис об отчуждении духа, который не возымел должного углубления. Отчуждение духа и есть неразделенный волевой акт трансцендентального Я, в котором снято противоположение сознания и материи. Но Гегель объясняет суть дела так, что материя, она же природа, есть инобытие универсального интеллекта, который полагает себя в своей противоположности ради самопознания. Именно у Гегеля достигший своего предельного выражения монистический объективизм оборачивается философской дегуманизацией человека. Маркс только довершает начатое. С одной стороны, человек величествен тем, что именно в нем универсальный интеллект обретается в самопознании, а с другой стороны, ничтожен потому, что есть не более чем средство к данному самопознанию. В этом и состоит окончательное забвение Канта. Нетрудно обнаружить в универсальном интеллекте Гегеля философскую реинкарнацию теистического бога. Гегелевский пантеизм парадоксально оборачивается апологией теизма. Мироощущение Гегеля - это мироощущение гармоническое, оно совсем не ведает трагизма и роковой участи человека, выброшенного в чудовищно давящий на него и отрицающий его мир явлений, а все потому, что победоносное и беспрепятственное самопознание универсального интеллекта есть торжество мировой гармонии. Несмотря на весь свой интеллектуализм, Гегель мистифицирует диалектику. Отныне у него она становится не искусством ведения полемики, а логическим противоречием как движущим источником, духом развития. Но если это так, если мир действительно есть воплощенное логическое противоречие, которое предстает прологом к самопознанию объективного, точнее, объективированного человеческим же умозрением первоначала, то миру давно бы уже подобало рассыпаться на части. Гегель справедливо отождествляет чистое бытие и чистое ничто, но их тождеством у него предстает становление как определенное бытие. Верно, что становление возможно лишь за счет небытия, которое и есть становление как таковое, в отличие от чистого бытия, но из этого не следует, что небытие и ничто - одно и то же, ибо бытие, в отличие от становления, и есть ничто сущего, что позже будет показано Хайдеггером. Если классический монизм, например, индусского типа, учит бытию становления, что себе на вооружение и возьмет Ницше, усмотревший в вечном возвращении предельную истину, то монизм Гегеля учит обратному, а именно становлению бытия. Гегель считается певцом историзма, но это одностороннее видение, ибо Гегель мог признать развитие конечным, не в пример тому же Фихте, учившему о том, что развитие бесконечно, лишь в порядке расхождения с духом своей грандиозной системы. Неопределенность природы, дурная бесконечность, которая явно страшит самого Гегеля, достигает своего пика в познавшем самое себя универсальном интеллекте, что не влечет за собою хорошей бесконечности, поскольку конец развития в самом деле означает возобновление круговорота, т.е. фиксацию, а не преодоление дурной бесконечности. У Гегеля вечность и время тожественны, причем это тожество, так же, как и у индусов, понимается им положительно, а не отрицательно, иначе Гегель заострил бы до предела антагонизм духа и природы, который может быть разрешен лишь через скачок в трансцендентное, не опосредованный какими бы то ни было количественными изменениями. Но для этого следовало признать, что антагонизм духа и природы и есть антагонизм бытия и становления, которые у Гегеля как раз таки и отожествляются. Самое же главное его заблуждение состоит в том, что он, вслед за Спинозой, хочет соизмерить тайну мироздания геометрическим методом, Эвклидовым умом, все бессилие которого за пределами чувственности было показано великим Кантом. Дуализм обязательно влечет к Канту, а через него - к Платону. Монизм же, что и было засвидетельствовано Гегелем, обязательно влечет к Спинозе, а через него - к Аристотелю. От Платона у Гегеля можно найти лишь унаследование объективизма, возымевшего у него свой предельный апофеоз.
Гегель. В философии Гегеля отступление от Канта и возвращение к спинозизму достигает своего предельного выражения. Самое значительное у него - это тезис об отчуждении духа, который не возымел должного углубления. Отчуждение духа и есть неразделенный волевой акт трансцендентального Я, в котором снято противоположение сознания и материи. Но Гегель объясняет суть дела так, что материя, она же природа, есть инобытие универсального интеллекта, который полагает себя в своей противоположности ради самопознания. Именно у Гегеля достигший своего предельного выражения монистический объективизм оборачивается философской дегуманизацией человека. Маркс только довершает начатое. С одной стороны, человек величествен тем, что именно в нем универсальный интеллект обретается в самопознании, а с другой стороны, ничтожен потому, что есть не более чем средство к данному самопознанию. В этом и состоит окончательное забвение Канта. Нетрудно обнаружить в универсальном интеллекте Гегеля философскую реинкарнацию теистического бога. Гегелевский пантеизм парадоксально оборачивается апологией теизма. Мироощущение Гегеля - это мироощущение гармоническое, оно совсем не ведает трагизма и роковой участи человека, выброшенного в чудовищно давящий на него и отрицающий его мир явлений, а все потому, что победоносное и беспрепятственное самопознание универсального интеллекта есть торжество мировой гармонии. Несмотря на весь свой интеллектуализм, Гегель мистифицирует диалектику. Отныне у него она становится не искусством ведения полемики, а логическим противоречием как движущим источником, духом развития. Но если это так, если мир действительно есть воплощенное логическое противоречие, которое предстает прологом к самопознанию объективного, точнее, объективированного человеческим же умозрением первоначала, то миру давно бы уже подобало рассыпаться на части. Гегель справедливо отождествляет чистое бытие и чистое ничто, но их тождеством у него предстает становление как определенное бытие. Верно, что становление возможно лишь за счет небытия, которое и есть становление как таковое, в отличие от чистого бытия, но из этого не следует, что небытие и ничто - одно и то же, ибо бытие, в отличие от становления, и есть ничто сущего, что позже будет показано Хайдеггером. Если классический монизм, например, индусского типа, учит бытию становления, что себе на вооружение и возьмет Ницше, усмотревший в вечном возвращении предельную истину, то монизм Гегеля учит обратному, а именно становлению бытия. Гегель считается певцом историзма, но это одностороннее видение, ибо Гегель мог признать развитие конечным, не в пример тому же Фихте, учившему о том, что развитие бесконечно, лишь в порядке расхождения с духом своей грандиозной системы. Неопределенность природы, дурная бесконечность, которая явно страшит самого Гегеля, достигает своего пика в познавшем самое себя универсальном интеллекте, что не влечет за собою хорошей бесконечности, поскольку конец развития в самом деле означает возобновление круговорота, т.е. фиксацию, а не преодоление дурной бесконечности. У Гегеля вечность и время тожественны, причем это тожество, так же, как и у индусов, понимается им положительно, а не отрицательно, иначе Гегель заострил бы до предела антагонизм духа и природы, который может быть разрешен лишь через скачок в трансцендентное, не опосредованный какими бы то ни было количественными изменениями. Но для этого следовало признать, что антагонизм духа и природы и есть антагонизм бытия и становления, которые у Гегеля как раз таки и отожествляются. Самое же главное его заблуждение состоит в том, что он, вслед за Спинозой, хочет соизмерить тайну мироздания геометрическим методом, Эвклидовым умом, все бессилие которого за пределами чувственности было показано великим Кантом. Дуализм обязательно влечет к Канту, а через него - к Платону. Монизм же, что и было засвидетельствовано Гегелем, обязательно влечет к Спинозе, а через него - к Аристотелю. От Платона у Гегеля можно найти лишь унаследование объективизма, возымевшего у него свой предельный апофеоз.
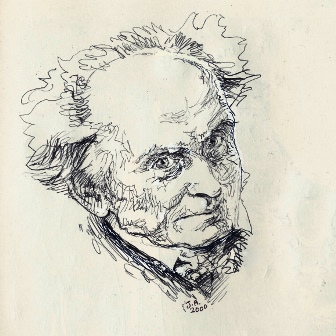 Шопенгауэр. Одинокий и стоящий как бы в стороне от магистральной линии движения германской мысли Шопенгауэр представляется мне наиболее близко стоящим к Канту, нежели те же Фихте, Шеллинг, а уж тем более Гегель. Это объясняется тем, что Шопенгауэр сохраняет кантовское различение явления и вещи самой по себе, чем выдает свою интеллектуальную глубину. В отличие от Канта, Шопенгауэр строит теорию науки не ради обоснования науки, а ради обоснования возможности метафизики на принципиально ненаучном основании, и в этом его заслуга. Он справедливо находит разум пустой способностью, дочерней по отношению к опыту, вне которого им неизбежно порождаются химеры. Странно, что Шопенгауэр противополагает, и верно противополагает разуму интуицию, но при этом находит волю только слепой, а не зрячей. Начав с обоснования метафизики, он в итоге изменяет Канту, поворачиваясь лицом к Спинозе точно так же, как преданные им херему Шеллинг и Гегель. И, как ни странно, Шеллинг и Гегель в этом отношении более метафизичны, нежели Шопенгауэр, который скорее может быть назван супранатуралистом, чем метафизиком. Я объясню, что имею под этим в виду. За пределами мира неподлинного, мира явлений Шопенгауэр находит в субъекте и через субъекта универсальную первооснову, которой оказывается воля как материя сама по себе. Шеллингу и Гегелю же присуща как раз таки установка именно на сознание. Здесь Шопенгауэр близок Фейербаху, общим местом которых выступает стихийный материализм, и он совершенно незаслуженно одаривает Фейербаха той же площадной бранью, что Шеллинга и Гегеля. Воля, как вещь сама по себе, снимает противоположение субъекта и объекта, но это монизм уже не столько даже индусского, сколько буддийского типа, потому что индусы, не в пример буддистам, знаю о том, что Кант и Фихте зовут трансцендентальным Я, между тем как Шопенгауэр чужд этому. Для него, равно как и для Фейербаха, человек нисколько не духовное и не личностное, а только природное и родовое существо. В своем имперсонализме они мне оба враждебны в одинаковой мере. Но Шопенгауэр не замечает, что, признавая, вслед за Кантом, умопостигаемого человека, он уже находит в человеке не только индивида, но и личность. Это свидетельствует об алогичности Шопенгауэра как мыслителя, не в пример тому же Гегелю, который был безукоризненно последователен в своей мысли. Можно даже сказать, что в своей алогичности Шопенгауэр - более живой мыслитель, нежели Гегель. Трагическое мироощущение Шопенгауэра ближе к истине, нежели гармоническое мироощущение Гегеля. Здесь суть дела отнюдь не состоит в пресыщении личным благосостоянием, поскольку таковое не может служить подлинным критерием довольства жизнью. Я уже молчу о том, что имеет место быть бездонная пропасть в слове и деле Шопенгауэра, относительно которой также непозволительно выносить оценочные суждения, которые всегда свидетельствуют против того, кто чванливо примеряет на себя мантию судии. Шопенгауэр справедливо изобличает ложь оптимистического историзма, планомерного и неукоснительного эволюционизма в истории, и в этом я также вижу его заслугу. Но между Гегелем и Шопенгауэром есть кое что общее, снимающее, на мой взгляд, противоположение между ними. У Шопенгауэра человек величествен тем, что посредством него воля преломляется в мире явлений, но, равно как и у Гегеля, он ничтожен тем, что служит не более чем средством к самопознанию универсальной первоосновы. Универсальная воля у Шопенгауэра свободна взамен человека точно так же, как и универсальный интеллект у Гегеля, и эта свобода имплицитно содержит в себе необходимость самопознания, что уже ставит под вопрос свободу воли. Этот парадокс может быть устранен лишь за счет сохранения дуализма, который наиболее адекватен кантовскому различению вещи самой по себе и явления. Если вы находите природу не только явлением, но и вещью самой по себе, как это делает Шопенгауэр, то свободу уже нельзя спасти. Не меньшая алогичность у Шопенгауэра состоит в том, что, наряду с признанием мира субъективным представлением, он учит о платонических идеях, как ступенях объективации воли и объектах искусства. В учении об искусстве мне крайне импонирует шопенгауэровский культ гениальности, явно позаимствованный им у раннего Шеллинга, но сама эстетика Шопенгауэра для меня неприемлема. Искусство я нахожу предметом не познания, а действия. Художник оперирует эстетической интуицией ради того, чтобы действенным образом созидать прекрасное, а не пассивным образом воспроизводить его. Причем это созидание, пускай и необязательно, но может быть сопряжено с травмой и болью, поскольку чувство прекрасного лишь умиротворяет, более того, оно наименее адекватно в мире явлений, который должен быть преодолен через его преображение, между тем как именно чувство возвышенного побуждает к трансцендированию посредством творчества художника, воздействующего на мир так же, как субъект воздействует на объект. Для меня также неприемлем не только эстетический эскапизм Шопенгауэра, но и его этика сострадания, по вопросу о которой я на стороне "бессердечного" Канта. Шопенгауэровский морализм, который, кстати, мог состояться лишь с подачи Канта, в целом претит мне уже хотя бы потому, что я, в отличие от Шопенгауэра, учу не этической значимости мира для человека, но онтологической значимости человека для мира. Поэтому морализму я противополагаю даже не эстетизм, но именно онтологизм.
Шопенгауэр. Одинокий и стоящий как бы в стороне от магистральной линии движения германской мысли Шопенгауэр представляется мне наиболее близко стоящим к Канту, нежели те же Фихте, Шеллинг, а уж тем более Гегель. Это объясняется тем, что Шопенгауэр сохраняет кантовское различение явления и вещи самой по себе, чем выдает свою интеллектуальную глубину. В отличие от Канта, Шопенгауэр строит теорию науки не ради обоснования науки, а ради обоснования возможности метафизики на принципиально ненаучном основании, и в этом его заслуга. Он справедливо находит разум пустой способностью, дочерней по отношению к опыту, вне которого им неизбежно порождаются химеры. Странно, что Шопенгауэр противополагает, и верно противополагает разуму интуицию, но при этом находит волю только слепой, а не зрячей. Начав с обоснования метафизики, он в итоге изменяет Канту, поворачиваясь лицом к Спинозе точно так же, как преданные им херему Шеллинг и Гегель. И, как ни странно, Шеллинг и Гегель в этом отношении более метафизичны, нежели Шопенгауэр, который скорее может быть назван супранатуралистом, чем метафизиком. Я объясню, что имею под этим в виду. За пределами мира неподлинного, мира явлений Шопенгауэр находит в субъекте и через субъекта универсальную первооснову, которой оказывается воля как материя сама по себе. Шеллингу и Гегелю же присуща как раз таки установка именно на сознание. Здесь Шопенгауэр близок Фейербаху, общим местом которых выступает стихийный материализм, и он совершенно незаслуженно одаривает Фейербаха той же площадной бранью, что Шеллинга и Гегеля. Воля, как вещь сама по себе, снимает противоположение субъекта и объекта, но это монизм уже не столько даже индусского, сколько буддийского типа, потому что индусы, не в пример буддистам, знаю о том, что Кант и Фихте зовут трансцендентальным Я, между тем как Шопенгауэр чужд этому. Для него, равно как и для Фейербаха, человек нисколько не духовное и не личностное, а только природное и родовое существо. В своем имперсонализме они мне оба враждебны в одинаковой мере. Но Шопенгауэр не замечает, что, признавая, вслед за Кантом, умопостигаемого человека, он уже находит в человеке не только индивида, но и личность. Это свидетельствует об алогичности Шопенгауэра как мыслителя, не в пример тому же Гегелю, который был безукоризненно последователен в своей мысли. Можно даже сказать, что в своей алогичности Шопенгауэр - более живой мыслитель, нежели Гегель. Трагическое мироощущение Шопенгауэра ближе к истине, нежели гармоническое мироощущение Гегеля. Здесь суть дела отнюдь не состоит в пресыщении личным благосостоянием, поскольку таковое не может служить подлинным критерием довольства жизнью. Я уже молчу о том, что имеет место быть бездонная пропасть в слове и деле Шопенгауэра, относительно которой также непозволительно выносить оценочные суждения, которые всегда свидетельствуют против того, кто чванливо примеряет на себя мантию судии. Шопенгауэр справедливо изобличает ложь оптимистического историзма, планомерного и неукоснительного эволюционизма в истории, и в этом я также вижу его заслугу. Но между Гегелем и Шопенгауэром есть кое что общее, снимающее, на мой взгляд, противоположение между ними. У Шопенгауэра человек величествен тем, что посредством него воля преломляется в мире явлений, но, равно как и у Гегеля, он ничтожен тем, что служит не более чем средством к самопознанию универсальной первоосновы. Универсальная воля у Шопенгауэра свободна взамен человека точно так же, как и универсальный интеллект у Гегеля, и эта свобода имплицитно содержит в себе необходимость самопознания, что уже ставит под вопрос свободу воли. Этот парадокс может быть устранен лишь за счет сохранения дуализма, который наиболее адекватен кантовскому различению вещи самой по себе и явления. Если вы находите природу не только явлением, но и вещью самой по себе, как это делает Шопенгауэр, то свободу уже нельзя спасти. Не меньшая алогичность у Шопенгауэра состоит в том, что, наряду с признанием мира субъективным представлением, он учит о платонических идеях, как ступенях объективации воли и объектах искусства. В учении об искусстве мне крайне импонирует шопенгауэровский культ гениальности, явно позаимствованный им у раннего Шеллинга, но сама эстетика Шопенгауэра для меня неприемлема. Искусство я нахожу предметом не познания, а действия. Художник оперирует эстетической интуицией ради того, чтобы действенным образом созидать прекрасное, а не пассивным образом воспроизводить его. Причем это созидание, пускай и необязательно, но может быть сопряжено с травмой и болью, поскольку чувство прекрасного лишь умиротворяет, более того, оно наименее адекватно в мире явлений, который должен быть преодолен через его преображение, между тем как именно чувство возвышенного побуждает к трансцендированию посредством творчества художника, воздействующего на мир так же, как субъект воздействует на объект. Для меня также неприемлем не только эстетический эскапизм Шопенгауэра, но и его этика сострадания, по вопросу о которой я на стороне "бессердечного" Канта. Шопенгауэровский морализм, который, кстати, мог состояться лишь с подачи Канта, в целом претит мне уже хотя бы потому, что я, в отличие от Шопенгауэра, учу не этической значимости мира для человека, но онтологической значимости человека для мира. Поэтому морализму я противополагаю даже не эстетизм, но именно онтологизм.
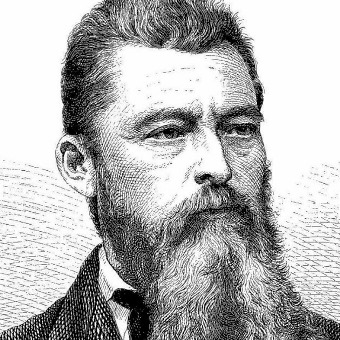 Фейербах. Как ни странно, явление Фейербаха намного ближе к явлению Канта, чем это может представиться на первый взгляд, оттого и неверно понято до сих пор. Стоит Фейербаху сказать, что "человек человеку - Бог", как это тут же изобличает в нем мистика, настоящего метафизика, хотя эти слова и указывают не на сущее, а на должное. Фейербах замечателен тем, что находит одного лишь человека мерой всех вещей, показывая, что именно человеческими страхами создаются иллюзии умозрения, оседающие в религии более всего прочего. Здесь Фейербах - достойный преемник Дэвида Юма и Канта, а также зачинатель верной по своей основе критики религиозного мироощущения, которую позже углубили Маркс и Дюркгейм. Явление Макса Штирнера, продолжившего начатый Кантом сеанс экзорцизма на почве мировоззрения, также непонятно без Фейербаха. Со свойственным ему гуманистическим пафосом, Фейербах, вслед за Кантом, призывает к пробуждению ото "сна разума, рождающего чудовищ". Но Фейербах изменяет своему призванию гуманиста тем, что находит в человеке лишь существо природное и родовое, а не духовное и личностное, до последнего оставаясь в лоне стихийного материализма. "Религия человечества" в итоге оборачивается сооружением очередного идола умозрения, только на сей раз это уже не теистический бог, но абстрактный "человек". Не менее чужда мне и эвдемонистическая этика Фейербаха.
Фейербах. Как ни странно, явление Фейербаха намного ближе к явлению Канта, чем это может представиться на первый взгляд, оттого и неверно понято до сих пор. Стоит Фейербаху сказать, что "человек человеку - Бог", как это тут же изобличает в нем мистика, настоящего метафизика, хотя эти слова и указывают не на сущее, а на должное. Фейербах замечателен тем, что находит одного лишь человека мерой всех вещей, показывая, что именно человеческими страхами создаются иллюзии умозрения, оседающие в религии более всего прочего. Здесь Фейербах - достойный преемник Дэвида Юма и Канта, а также зачинатель верной по своей основе критики религиозного мироощущения, которую позже углубили Маркс и Дюркгейм. Явление Макса Штирнера, продолжившего начатый Кантом сеанс экзорцизма на почве мировоззрения, также непонятно без Фейербаха. Со свойственным ему гуманистическим пафосом, Фейербах, вслед за Кантом, призывает к пробуждению ото "сна разума, рождающего чудовищ". Но Фейербах изменяет своему призванию гуманиста тем, что находит в человеке лишь существо природное и родовое, а не духовное и личностное, до последнего оставаясь в лоне стихийного материализма. "Религия человечества" в итоге оборачивается сооружением очередного идола умозрения, только на сей раз это уже не теистический бог, но абстрактный "человек". Не менее чужда мне и эвдемонистическая этика Фейербаха.

Штирнер. Эгоцентризм Штирнера имеет терапевтическое значение, поскольку им развеиваются призраки, рожденные одержимыми. Штирнеру должно быть дано соответствующее метафизическое истолкование. Глубокая правда Штирнера состоит в том, что весь мир должен быть моей собственностью как единственного, что я должен быть во всем и все должно быть во мне. Хотя Штирнер и считается провозвестником ницшеанской "переоценки всех ценностей", но оба своим пафосом обязаны Канту, который не достиг в данном отношении надлежащей последовательности, за что и был справедливо порицаем Ницше. При этом Штирнера я нахожу во многих отношениях куда более глубоким мыслителем, нежели эпатажный Ницше.
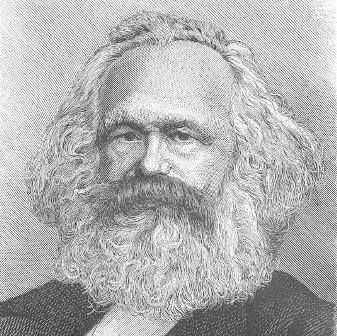 Маркс. Ранний Маркс побуждаем гуманистическим пафосом преодоления отчуждения, и в этом заключается его глубочайшая правда. При этом отчуждение видится им в крайне ограниченном срезе, как отчуждение социально-экономическое, хотя оно метафизично в своей сути и истоках. Но в итоге, как это было показано Альтюссером, Маркс заключает теоретическим антигуманизмом. Человек есть не более чем звено в агрегате производства и потребления, фатально подчиненный социально-экономической детерминации. Если у Фейербаха отдельно взятый человек подчиняется призраку "человечества", против которого справедливо объявляет свое восстание Штирнер, то у Маркса таковым призраком становится класс. Несмотря на свой материализм, в целом такой же декларативный, как и у Фейербаха, Маркс наследует иудейскому мессианизму, и в его философии, на что уже неоднократно указывалось, тем же, например, Бердяевым, сквозняком проходит хилиазм, который как раз и стал питательной почвой для социальных утопий средневековья. Утопия Маркса предельно обмирщена, оттого и более чудовищна в своем практическом осуществлении, чем та же утопия средневековых альбигойцев или анабаптистов. Сумрак тоталитаризма прошлого столетия служит тому наглядным подтверждением, будучи обязанным Марксу в немалой степени. Роковой провал марксистской утопии послужил неопровержимым свидетельством несостоятельности такого лживого фантома, как историзм.
Маркс. Ранний Маркс побуждаем гуманистическим пафосом преодоления отчуждения, и в этом заключается его глубочайшая правда. При этом отчуждение видится им в крайне ограниченном срезе, как отчуждение социально-экономическое, хотя оно метафизично в своей сути и истоках. Но в итоге, как это было показано Альтюссером, Маркс заключает теоретическим антигуманизмом. Человек есть не более чем звено в агрегате производства и потребления, фатально подчиненный социально-экономической детерминации. Если у Фейербаха отдельно взятый человек подчиняется призраку "человечества", против которого справедливо объявляет свое восстание Штирнер, то у Маркса таковым призраком становится класс. Несмотря на свой материализм, в целом такой же декларативный, как и у Фейербаха, Маркс наследует иудейскому мессианизму, и в его философии, на что уже неоднократно указывалось, тем же, например, Бердяевым, сквозняком проходит хилиазм, который как раз и стал питательной почвой для социальных утопий средневековья. Утопия Маркса предельно обмирщена, оттого и более чудовищна в своем практическом осуществлении, чем та же утопия средневековых альбигойцев или анабаптистов. Сумрак тоталитаризма прошлого столетия служит тому наглядным подтверждением, будучи обязанным Марксу в немалой степени. Роковой провал марксистской утопии послужил неопровержимым свидетельством несостоятельности такого лживого фантома, как историзм.
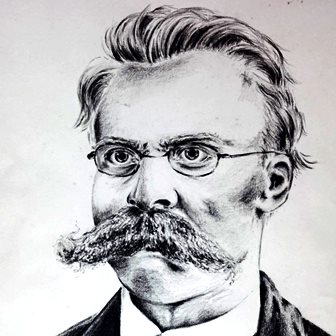 Ницше. Тематика Ницше есть преимущественно тематика патетическая, нежели философская. Бердяев верно замечает, что Ницше показывает, какой может быть трагедия в условиях "пустующих небес" и "смерти Бога", в атмосфере богооставленности. Я, вслед за Хайдеггером, нахожу Ницше не атеистом, а богоискателем, который чрезвычайно повержен тем фактом, что за "смертью Бога" человеку не остается ничего, кроме как отчаянно завывать в изнутри растущую пустыню, изыскивая оправдание себе самому в себе самом. Там, где умирает Бог, неизбежно умирает и человек, слишком долго обращавший свой взор к небесам, дабы изыскать обоснование того, что он существует. Ключом к пониманию ницшеанского "сверхчеловека" может послужить парадоксальная фигура "победителя бога и ничто", который заступает на смену поколению "последних людей", ничтожных до такой степени, что они утратили способность к осмеянию себя самих. Очень много говорили о схожести между Ницше и Достоевским, и я соглашусь с этим, поскольку интуиция Достоевского о "человекобоге" есть предвосхищение ницшеанской интуиции о "сверхчеловеке", выступающего "судьей и законодателем ценностей". Если на что и доводится ему опереться, так лишь на изнутри растущую пустыню собственного одиночества. У постмодернистов, особенно у Фуко и Делеза, это возымеет интересное продолжение. Но, как ни странно, подведение Ницше итога факту дегуманизации человека в философии служит подтверждением слов Канта о том, что человеку, как цели самой по себе, еще только предстоит состояться. Главная заслуга Ницше состоит в том, что трагическое мироощущение Шопенгауэра, грозящее эскапизмом и квиетизмом, было обращено им в "пессимизм силы". Ницшеанский мотив "верности земле", очень глубокий и правдивый, должен возыметь метафизическое истолкование. Источник личной трагедии Ницше я нахожу в том, что он, разуверившись в метафизике, нашел предельную истину в бытии становления, в благословении тюрьмы вечного возвращения. Странно, что Бердяев не понял очевидного, а именно, что любовь Заратустры к вечности есть любовь не к вечному настоящему, как атому вечности, по Кьеркегору, но к повторению одного и того же, в котором вечность и время тожественны.
Ницше. Тематика Ницше есть преимущественно тематика патетическая, нежели философская. Бердяев верно замечает, что Ницше показывает, какой может быть трагедия в условиях "пустующих небес" и "смерти Бога", в атмосфере богооставленности. Я, вслед за Хайдеггером, нахожу Ницше не атеистом, а богоискателем, который чрезвычайно повержен тем фактом, что за "смертью Бога" человеку не остается ничего, кроме как отчаянно завывать в изнутри растущую пустыню, изыскивая оправдание себе самому в себе самом. Там, где умирает Бог, неизбежно умирает и человек, слишком долго обращавший свой взор к небесам, дабы изыскать обоснование того, что он существует. Ключом к пониманию ницшеанского "сверхчеловека" может послужить парадоксальная фигура "победителя бога и ничто", который заступает на смену поколению "последних людей", ничтожных до такой степени, что они утратили способность к осмеянию себя самих. Очень много говорили о схожести между Ницше и Достоевским, и я соглашусь с этим, поскольку интуиция Достоевского о "человекобоге" есть предвосхищение ницшеанской интуиции о "сверхчеловеке", выступающего "судьей и законодателем ценностей". Если на что и доводится ему опереться, так лишь на изнутри растущую пустыню собственного одиночества. У постмодернистов, особенно у Фуко и Делеза, это возымеет интересное продолжение. Но, как ни странно, подведение Ницше итога факту дегуманизации человека в философии служит подтверждением слов Канта о том, что человеку, как цели самой по себе, еще только предстоит состояться. Главная заслуга Ницше состоит в том, что трагическое мироощущение Шопенгауэра, грозящее эскапизмом и квиетизмом, было обращено им в "пессимизм силы". Ницшеанский мотив "верности земле", очень глубокий и правдивый, должен возыметь метафизическое истолкование. Источник личной трагедии Ницше я нахожу в том, что он, разуверившись в метафизике, нашел предельную истину в бытии становления, в благословении тюрьмы вечного возвращения. Странно, что Бердяев не понял очевидного, а именно, что любовь Заратустры к вечности есть любовь не к вечному настоящему, как атому вечности, по Кьеркегору, но к повторению одного и того же, в котором вечность и время тожественны.
 Хайдеггер. По праву следует признать Хайдеггера достойным завершителем вышеозначенной плеяды германских мыслителей. Глубокая правда Хайдеггера состоит в том, что он, не в пример экзистенциалистам, к числу которых его причисляют по недоразумению, созданному Сартром, понимает новую метафизику как новую онтологию, к основанию которой он и приступает. Величайшим изъяном философии Хайдеггера следует признать наукообразность ее изложения, отсылающую к традиции Канта и Гегеля. Но величайшее ее достоинство состоит в том, что Хайдеггер в основание своего мировоззрения положил различение бытия и сущего, которое в соединении с кантовским различением вещи самой по себе и явления источает революционный потенциал в деле обновления мысли. Однако же роковым у Хайдеггера я нахожу устранение различия между субъектом и объектом, чреватое тем обращением к восточной мудрости, в которой Хайдеггер точно так же, как и задолго до него Шопенгауэр, нашел источник спасительного для себя квиетива. Запутано у Хайдеггера различение бытия и сущего в том смысле, что бытие, понимаемое как чистое ничто, может быть истолковано точно так же, как и у Гегеля, а это как раз и влечет за собой откат к спинозизму. Финальный аккорд германской философии послужил прологом сначала к экзистенциалистскому, а затем и к постмодернистскому тупику.
Хайдеггер. По праву следует признать Хайдеггера достойным завершителем вышеозначенной плеяды германских мыслителей. Глубокая правда Хайдеггера состоит в том, что он, не в пример экзистенциалистам, к числу которых его причисляют по недоразумению, созданному Сартром, понимает новую метафизику как новую онтологию, к основанию которой он и приступает. Величайшим изъяном философии Хайдеггера следует признать наукообразность ее изложения, отсылающую к традиции Канта и Гегеля. Но величайшее ее достоинство состоит в том, что Хайдеггер в основание своего мировоззрения положил различение бытия и сущего, которое в соединении с кантовским различением вещи самой по себе и явления источает революционный потенциал в деле обновления мысли. Однако же роковым у Хайдеггера я нахожу устранение различия между субъектом и объектом, чреватое тем обращением к восточной мудрости, в которой Хайдеггер точно так же, как и задолго до него Шопенгауэр, нашел источник спасительного для себя квиетива. Запутано у Хайдеггера различение бытия и сущего в том смысле, что бытие, понимаемое как чистое ничто, может быть истолковано точно так же, как и у Гегеля, а это как раз и влечет за собой откат к спинозизму. Финальный аккорд германской философии послужил прологом сначала к экзистенциалистскому, а затем и к постмодернистскому тупику.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

