Бумеранг не вернется: Лекарственная литература
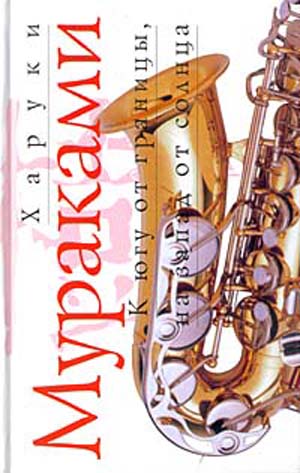 |
Какой бы я хотел, чтобы была литература? А точнее: какой бы я
хотел, чтобы была литература теперь? Теперь, когда уже столько
всякого произошло. Когда стало почти понятно, что даже если всё
это и культурный тупик, то тупик очень просторный, и мы в нем
задохнемся не сразу, далеко не сразу. Поэтому мне интересны перспективы,
о паре штук каковых я и намерен сообщить.
Во-первых, это книга, о которой не очень много говорили – роман
Харуки Мураками «К югу от границы, на запад от солнца» (М.: Эксмо,
2003). Конечно, автор сериальный на наших просторах. Представленный
более-менее широко. Любимый и грозящийся перетечь в школьную какую-нибудь
программу.
Но именно роман «К югу от границы» представляется эталонным в
смысле преодоления кризиса современной литературы (если этот кризис
существует). Напомню вкратце фабулу. Совершенно неспешно герой
рассказывает свою японскую жизнь: от детства-школы до сорокалетнего
мужества в рыночной экономике. Вполне обычная жизнь с акцентами
на сексуальности, первых любвях и семейном положении. Позади студенческие
волнения и разочарование в бунтарских идеалах. Позади скучные
годы работы в скучной конторе, удачная женитьба и открытие собственного
джаз-бара. Всё нормально, ничего не происходит. Пока не случается
встреча с первой любовью, еще школьной поры. Героя это неожиданно
сильно всколыхивает, еще пара таких же спонтанных встреч, и он
окончательно сходит с рельс. На грани краха семья и любимая работа.
Но в конце концов все устаканивается и наваждение уползает в свою
бездну, правда, неизвестно, надолго ли.
Самый простой сюжет. И основная часть истории вполне автобиографична:
смена Мураками «старой» Японии (Кансай) на модерновую (Канто),
учеба в токийском университете, женитьба, джаз-бар. Переход от
кансайского диалекта к токийскому, переход от кансайской замысловатости
к токийской рациональности. И переломный момент в таком переходе,
кризисный момент: «В годы моего студенчества сам воздух,
казалось, сочился идеализмом, антивоенными настроениями, контр-культурой.
Я тоже участвовал в этом, понятное дело – но уже к началу 70-х
со всем этим было покончено. И тогда я понял, что надежности нет
ни в чем. Я уже не мог ничему доверять. И пообещал себе, что больше
никогда не примкну ни к каким движениям, идеологиям или "-измам".
Они разочаровали меня. Они предали меня. И я начал записывать
то, что чувствовал обо всем этом мире».
В результате получился известный муракамовский стоициzм. В романе
«К югу от границы» тема адюльтера, тема эротики и тема любви всего
лишь расцвечивают стоицизм героя, ничему не доверяющего,
разочарованного. А все события с появившимися возлюбленными
детства и юности – это глубинный психоз, реванш бессознательного,
достоверная галлюцинация. Призраки – любимая тема японского фольклора.
И тот слом, который происходит в жизни героя романа (и такой слом
происходит в романах Мураками обязательно) – это плавный переход
нарратива из состояния «реалистичности» в вид некоего интрапсихического
эквивалента действительности. Хотя, в общем-то, всякая литература
и есть целиком интрапсихический эквивалент действительности. И
в романе «К югу от границы» особенно незамысловато и оттого незаметно
осуществлен размыв медленного, плавного романного мимесиса аномальным
«провалом». И в таком вот мягком, незаметном «провале», падая
с героем в незаметную, психотическую пропасть, замечательно чисто
и остро осуществляется читательский семиозис. И в местах семиотической
аномалии активно вырабатывается «третий смысл» (если использовать
высказывания Р.Барта о неартикулированном смысле, переводя термин
из кинограмматической плоскости к традиционному тексту). Такие
аномальные «провалы» у Мураками, кажется, обозначаются словом
«ка-бу» (англ. “curve”) и термин «дуга, кривая» несет на себе
скорее атрибутику горизонтального движения. Конечно, о «третьем
смысле» у Мураками можно прочесть в исследованиях Д.Коваленина
(«Суси-нуар. Занимательное муракамоЕдение», изд-во «София» 2004),
где интертекстуальные связи обозначены с точностью, достойной
внешней разведки – Ф.Коппола, Ф.Кафка и т.д.. Но в случае нашего
романа интересно прежде всего то, что, по большей части, в повествовании
ничего не происходит, а то что вдруг произошло – того никогда
в общем-то и не происходило. Развивая эту тему, можно предположить
обратное: если главная, активная часть романа состоит из психотического
погружения в «антимир», в то, чего нет, то весь прочий реалистический
мимесис – вещь еще менее реальная (по интенсивности – точно).
Отсюда недалеко до полной иллюзорности литературы, основным действительным
фактом существования которой становится упомянутый «провал», смысловая
аномалия, читательское спасение через семиозис. Само это «спасение»
тоже, кстати, вещь чисто интрапсихическая, «антимирная» и аномальная.
И сделать весь этот «компот» со спасением, провалом и стоическим
отказом от авторской интерпретации лучше всех смог Мураками-сан.
«К югу от границы» прекрасна именно своей невозможной гладкостью
бездны. Это так, словно ты долго плыл вместе с речным течением
куда-то и даже не заметил, что с той же водой уже летишь вниз
частью водопада.
Конечно, Мураками, выстраивая эти «водопады», знает банальную
писательскую истину: «Рассказывание историй лечит. Если
ты можешь рассказать хорошую историю, ты можешь быть исцелен.
Наверное, поэтому я пишу книги. Я хочу исцелиться.» Отсутствие
нелепого надрыва и отсутствие слишком назойливой авторской опеки
читателя делают это лекарство особенным на фоне прочей литературной
фармакопеи. Впечатляет также количество желающих исцелиться. Кажется,
что проза Мураками, – в особенности роман «К югу от…», – беспримерное
плацебо.
Ну, а во-вторых, лично мне кажется, что литература теперь, когда
мы зажаты с одного боку архивами прекрасного,
а с другого рыночным трэшем актуального, должна быть всё-таки
более близка к тому, что, ничуть не стесняясь, явили нам не столь
давно П.Пепперштейн и С.Ануфриев. Это «Мифогенная любовь каст»
в двух томах и – шире – наследие группы «Медицинская герменевтика».
Об этом много написано превосходной обожательной и истерической
аналитики, сам роман стал тем новым «Войной и миром», которого
достойна наша культура (зажатая между), и в «Топосе»
я лично, стараясь походить на свободного художника и холодного
философа, рецензировал динамит «МЛК». Естественно, немаловажно
то, что описательная система «Медгерменевтики» (Пепперштейна в
частности) подобна сфере, противостоять которой совершенно бессмысленно
(и беспощадно): ты либо входишь в композицию (stuff) как естественный
элемент МГ-топологии, либо оказываешься критическим бликом, оттеняющим
мерцающую поверхность Колобка. Есть еще третий вариант, когда
ты настолько из другой сказки, что в жизни у тебя есть место только
для дренажа и ирригации, но тогда все слова напрасны.
Так вот, о вкладе этой второй книги в сокровищницу нашего предполагаемого
тупика (лакуны, пещеры Али-бабы, штольни троллей, далее по Фрейду).
Пепперштейну принадлежит замечательное определение искусства (не
знаю, насколько оно оригинально, но сейчас важно то, что об этом
знает автор знаковой эпопеи о войне и мире): «Но что такое
искусство, что лежит в его основе? Мне кажется, что в основе искусства
лежит именно недопонимание, это одно из наименее уязвимых определений
его сущности, его художественной, то есть фантазматической природы
– фантазм и является плодом недопонимания. Так ребенок, встретив
в книге слова и описания, относящиеся к сексуальной сфере, и еще
не догадываясь об их истинном значении, вынужден создать у себя
в голове замещающие конструкции, призванные восполнить пустоту
незнания: по всей вероятности, это и есть тот материал, из которого
возникает искусство – оно апеллирует к пленке недопонимания. Художник,
по-моему, тем и отличается от любого другого высказывающегося,
что он неизменно стремится к питательной среде недопонимания,
где плодятся выгодные для него и для зрителя фантазмы. Точнее
всего это определяется английским словом misunderstanding».
Ключевые слова здесь: пустота незнания и питательная среда (далее
по Фрейду).
Важно и то, что стремление к среде недопонимания (аномальной зоне
мимесиса) оборачивается выгодными (обоюдовыгодными для высказывающегося
и считывающего) плодами фантазмов. А в каждом фантазме – содержатся
гаструлы семиозиса. Для Пепперштейна характерно восприятие литературы
(современной?) как системы, воспроизводящей фантазмы, а значит,
необщей, разбитой по индивидуальным предпочтениям, идиосинкразиям,
психокартам. Это прежде всего литература рекреации и терапии.
Терапевтический момент становится главной целью и важнейшим эффектом.
Эффект этот основан на недопонимании, в том числе на индивидуальном
преодолении недопонимания, на целительной интерпретации, на свободном
восстановлении казалось бы рухнувших миметических связей. Любопытно,
что при таком раскладе роман «МЛК» сам по себе выглядит значительной
аномалией на поверхности равнинной русской литературы. Собственно,
аномалией он кажется и оттого, что несет в своей структуре волшебные
нарративы классического китайского романа (XVII век «Путешествие
на Запад» У Чанъэня), при этом ни на миг не прекращая быть истинно
русским романом. Кроме того, учитывая деятельность «Медгерменевтики»
и Пепперштейна в культурной жизни запада (Европы в частности),
можно увидеть в «МЛК» момент важнейшей для русской культуры коммуникации
с просвещенным Западом; эта коммуникация, в соответствии с канонами
концептуализма, парадоксально основывается на непонимании/недопонимании
и на терапевтическом отношении к этому процессу. Китай в этой
шизоидно-экстатической комбинации исключительно к месту.
Все остальные образцы прозаической деятельности, спору нет, хороши,
но выглядят либо слишком тяжеловесно, либо слишком понятно, а
это в данный период стяжания духа бизнесом и цифровой демократии
отбирает у них множество шансов на развитие в будущем. Так что
на необитаемый остров теперь я взял бы с собой две указанные книги
(речь шла о художественной литературе, покуда этот термин еще
не устарел морально).
P.S. Недавно в каком-то журнале наткнулся на цитату из некоей
древней статьи И.А.Бунина по поводу русской культуры (и литературы).
Это к тому, почему я в этот раз так настаивал на слове «теперь».
Вот что писал рассерженный И.А.Бунин: «Второе тысячелетие
идет нашей культуре. Был у нас Киев, Новгород, Псков, Москва,
Петрбург, было изумительное зодчество и иконописное искусство,
было «Слово о полку Игореве», был Петр Первый и Александр Второй,
мы на весь свет прославились нашей музыкой, литературой, в которой
были Ломоносов, Державин, Кольцов, Пушкин, Толстой… Но нет, нам
все мало, все не то, не то! Нам все еще подавай «самородков»,
вшивых русых кудрей и дикарских рыданий от нежности. Это ли не
сумасшествие, это ли не последнее непотребство по отношению к
самому себе?» Любопытно, что Бунин не внес свою фамилию
в список, сразу за Толстым. От этого поначалу такое ясное, четкое
высказывание вдруг приобретает какую-то совершенно тунгусскую
аномальность.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

