Аксиомы авангарда (3)
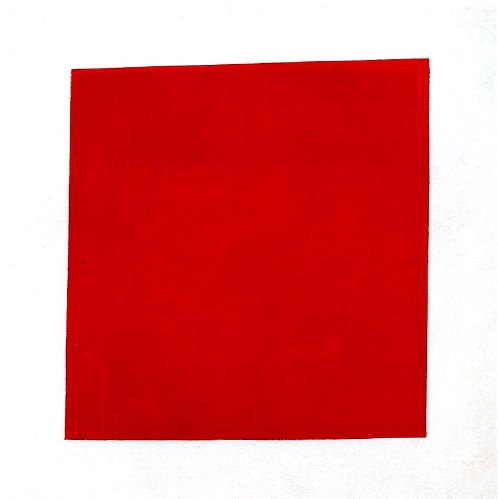
Казимир Малевич. Красный квадрат.
4
В 1913 году Казимир Малевич создал «Красный квадрат». Красный квадрат на белом поле. Гитлер, покинувший в том же году Вену, прозрел в красном и белом доктрину противопоставления, борьбу двух противоположных сил – конфликт огня и льда, воспетый в «Эдде».
Белое и красное!
Под красно-белым полотнищем Моисей выводил ветхозаветных евреев из египетского плена. Гитлер искал пророка, который, подобно Моисею, вывел бы его из мира мюзик-холла. В 1919 году судьба свела его с оккультистом Дитрихом Эккартом. По мнению немецкого историка Конрада Хейдена, именно этот человек ответственен за духовное формирование Гитлера. Эккарт, говоря о Гитлере, восклицал на собраниях посвященных: «Вот тот, для кого я – пророк и предтеча!». Эккарт и внушил будущему фюреру немецкого народа идею красно-белого полотнища, под которым тот повел избранную нацию на поиски мистической родины, при условии, что никаких других источников, способных повлиять на характер символики движения к земле обетованной, не было.
В 1936 году, через двадцать один год после того, как в Германии Герман Поль основал Орден Рыцарей Святого Грааля, в Мюнхене, баварской столице, развешивались плакаты с изображением Адольфа Гитлера в серебряных доспехах рыцаря Грааля. Фюрер достиг вершины, с которой он надеялся увидеть сверкание обетованного льда.
Когда в 1933 Гитлер пришёл к власти, в Ленинграде Казимир Малевич создал знаменитый автопортрет. Художник вполне понимал символическое противостояние красного и белого, обернувшегося для России тотальным разобщением, знаком катастрофичного исхода из мира традиции. Он написал себя в красном берете на белом фоне. На портрете пророк – всё-таки пророк? – познавший горечь неудачи в создании нового человека.
Не приходится ли говорить о портретах-инверсиях, портретах-оборотнях с одним и тем же героем – алхимиком, так и не решившим проблему теплохладности, не угадавшим пропорции красного и белого?

Казимир Малевич. Автопортрет.
5
Большая Берлинская художественная выставка 1927 года объединяла Весенний Салон, Выставку без жюри, Выставку религиозного искусства и нескольких дополнительных экспозиций, в том числе огромный зал ретроспективы «супрематиста» Малевича. «В Германии, где очень большой успех мог иметь невразумительный Кандинский, более синтетичный, более мужественный Малевич, да еще при нынешнем повороте к жесткой и твердой живописи вообще, не мог не вызвать симпатии», – писал в № 30 журнала «Огонёк» Луначарский. Экспозиция Малевича ясно выражала желание художника научиться и приучить зрителя наслаждаться различиями за пределами обычной цветовой гаммы, близкой к пределу зримости, если не к зрительной тишине.
«Я думаю, что ещё ни одному художнику не было оказано такого гостеприимства, – написал Малевич молодой жене Наталье Манченко из Берлина. – Немцы меня встретили лучше не придумаешь. С мнением моим считаются, как с аксиомой. Одним словом, слава льётся, как дворником улица метётся».
Цветы, цветы… – всюду в Берлине ими встречали Малевича. Он радовался, такого почтения отечество не выказывало пророку нового искусства даже в период зенита его славы, зато на чужбине небесные дворники намели сотни лепестков признания. Но хотя бы один из них оказался казначейским билетом, денежной купюрой! Художника чествовали так, будто он известный всему миру миллионер, утомлённый упоминаниями о деньгах. За время командировки он не получил от любезной публики, в олицетворении каких-либо обществ, частных лиц и государственных структур, ни одного пфеннига.
Бывшие соотечественники, русские эмигранты, кажется, вообще обошли вниманием зал Малевича на Большой Берлинской художественной выставке. Действительно, русские берлинцы весны-осени 1927 года не оставили свидетельств об этом культурном событии. Теперь это кажется довольно странным, ведь в немецкой столице той поры работали выставки самых разнообразных русских живописцев: Роман Гуль, увёзший с собой, кажется, всю Россию, отмечал среди них Кандинского, Шагала, Явленского и многих других, но не Малевича. Почему так произошло? По логике поговорки – в каждой шутке есть доля шутки, – не следует ли признать непопадание «Квадрата» Малевича в круг интересов эмигрантов? Тут поневоле вспомнишь, что движущийся объект воспринимают скорее и помнят дольше, чем неподвижный. Движущийся либо продвигаемый. Жизнь Берлина 1920-х годов, по словам её свидетеля Владислава Ходасевича, двигалась в «блестящем бреду», и чтобы в нём заметить что-то достойное внимания, этому чему-то надо было бы выглядеть ещё более блестящим, более бредовым, мотоциклетным и синематичным. Или танцевальным.
«Ночь! Тауэнтциен! Кокаин! Это Берлин!» – в такой своеобразной двигательной последовательности квадрата или тактов фокстрота – 1–2–3–4 – Андрей Белый увидел город. Правда, это были сугубо ночные, с расширенными зрачками, растворяющими собственную синеву, глаза не столько поэта, сколько экстравагантного танцора. Находясь в Берлине, Белый не пропустил ни одной танцевальной моды, пробуя себя в различных изводах танго, в фокстроте, шимми и шибере. Лысый мужчина за сорок проявил себя неутомимым танцором в глазах русских берлинцев 1920-х годов.
Магически действовало на женщин неуловимое обаяние Белого, он пленял их проникновенной речью, манил пугающей откровенностью. Не чуя под собой ног, партнёрша по мановению его синих глаз ступала на качающийся паркет и едва достигнув центра зала, готова была в ужасе отпрянуть, уверенная, что вдруг разъехавшиеся под каблучками паркетины разверзлись зловещей пастью омута. Отпрянуть? Куда там! Тело повиновалось только движениям лёгких, но неимоверно цепких и властных рук, а в голове… Откуда, откуда же это неотвязное – «к плечам её атласным тоскующий склоняется вампир»? Да, разве вспомнишь на грани обморока… Танцевальная манера Белого нередко доводила до слёз партнёрш, и ни у кого не было сил остановить его.
Немногие умеют читать стихи, даже предназначенные для скандирования. Ещё меньше тех, кто мог бы в непредсказуемой смене ритмов фокстрота Андрея Белого, сквозь судороги его па увидеть излёт обездвиженной мечты. Поэт хлестал наотмашь своё сердце, застывшее в недоумении, не желающее жить без любви. Тридцати двухтактным темпом фокстрота он принуждал сердце имитировать подобие жизни. При всей странности, танцевальная манера Андрея Белого вызывала у раскованных богемьенов интерес и желание подражать, но таких отважных было не много. А ведь было время, когда берлинские дамы, говоря об Андрее Белом, называли его «дер гемютлихе руссе» – этот уютный русский.
Если бы Казимир Малевич показал себя новатором танцевальной моды на манер Андрея Белого, то недостатка зафиксированных впечатлений, свидетельствующих о его пребывании в Берлине, конечно бы не было, и наверняка среди них нашлось бы несколько ярких о его выставке. Но сорока шестилетний художник оказался совершенно чужд танцевальной пластике. Может быть, потому что свежими для него продолжали оставаться впечатления от недавнего соединения с любимой. Зачем ему бежать от своего и искать другого счастья? А Белый бежал за счастьем – и падал: разрыв с Асей Тургеневой толкал искать забвения в танцах.
Ходасевич сказал об отчаявшихся:
Что ж, в берлинском угаре Андрей Белый искал, поди, такого забвения.
А вот, что Ходасевич писал, досконально зная о не мистически обморочных танцевальных необъяснихах поэта, лишившегося своей Весны, Розмарина, Королевны с обворожительными пепельными свисающими волосами: «Не в том дело, что танцевал он плохо, а в том, что он танцевал страшно. В однообразную толчею фокстротов вносил свои ,,вариации“ – искажённый отсвет неизменного своеобразия, которое он проявлял во всём, за что ни брался. Танец в его исполнении превращался в чудовищную мелодраму, порой даже непристойную». Принимая близко к сердцу трагедию Белого, Ходасевич чурался её внешнего выражения, брожения, бреда. Иное дело, люди без строгих правил. Поэтессу Леру Фурье от них освободила влюблённость в поэта, с ним она не раз посещала разные берлинские Dielen: «Мы танцевали в ритме one step или шимми, и ещё им самим был придуманный танец – step-da-step, смешной до жути. Публика была в таком восторге, что мне даже дарили цветы».
Берлинские цветы источали пошловатый аромат горечи обманутых надежд, это понимали художник и поэт, один – в поисках денег, другой – любви.
6
Покидая Кайзерхоф, Гуго Геринг решил обменяться мнениями о выставке Малевича с Альбертом Шпеером, и тот, очевидно в силу своей молодости, без обиняков заявил:
– Все супрематические картины выставки свидетельствуют, скорее, о его глазе землемера, делящего пересечённую местность на участки, нежели о взгляде художника, совершающего зрительный акт, творчески суммирующего ряд движений. Я пришёл к заключению, что принципы композиции он полностью игнорирует, довольствуясь комбинацией. Два-три приёма комбинаторики его полностью устраивают.
– Но ему нельзя отказать в активном использовании свойств ассиметрии в построении картин, ассиметрия в данном случае, согласитесь, Альберт, элемент явно двигательный, – деликатно заметил Геринг.
– Дорогой Гуго, вы бесподобный адвокат! – рассмеялся Шпеер. – Вам ли не знать разницу между кривыми и прямыми линиями! У них совершенно разные двигательные свойства. Едва горизонтальная линия берёт какое-то направление, как Малевич тут же преграждает ей путь вертикальной – не даёт развития, тормозит. И так по множеству раз в одной картине. Разве в его супрематических опусах есть движение? Да, конечно, какое-то шевеление при этом возникает – супрематическое, – похожее на то, как неорганизованные массы в открытых пространствах скверно спланированного города перемещаются, направляемые регулировщиками и полицейским оцеплением. У Малевича в этих картинах, думаю, и в остальных та же история: преобладание прямых, да что там! почти полное отсутствие кривых линий – наиболее двигательных. Кривизна как изобразительный инструмент передачи движения для него слишком сложна? Если да, это – явный регресс для плоскостного изображения. Вместо неисчерпаемых возможностей кривых линий – деформация простейших геометрических фигур, скверно понятый архаичный метод передачи глубины: прямоугольник сдавлен до параллелограмма, бесцеремонно прессуется равнобедренный треугольник…
– Вы столько успели заметить за одно посещение?
– Я провёл на этой выставке не менее часа, основательно познакомился с книгой Малевича.
– Альберт, я, не как адвокат, а, пожалуй, как дипломат между вами, и от себя, как архитектор, скажу так. Наверно, я не сильно ошибусь, если супрематизм Малевича и его выход в архитектуру в виде незрячих архитектонов вполне может иметь реализацию на практике. В виде массовых сооружений города мёртвых, на кладбище: надгробные плиты, стелы, склепы, урны и другие атрибуты.
Шпеер развёл руками:
– Кто ж будет спорить с тонким знатоком устройства некрополей, автором блестящего проекта колумбария? Впрочем, время покажет.
– Время? – Геринг невольно вспомнил часы Малевича.
(Продолжение следует)
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

