Хуциев. Ну чем не антиукраинская актуальность?
С. Воложин (17/06/2014)
Ложноножка это тот выброс из тела амёбы, который показал ей, что в этом направлении вкус воды малоперспективен насчёт наличия еды там, впереди. И тогда ложноножка вбирается в тело амёбы, и амёба вытягивает в другом направлении новую ножку: вдруг там вкус воды привлекательнее.
Ложноножки – хороший образ процесса постижения художественного смысла произведения искусства, когда тот скрыт.
Слово «правдоножка» я выдумал в споре со своей, так сказать, внутренней рецензенткой моих не только написанных искусствоведческих статей, но и самого процесса написания данной статьи, т.е. я выдумал это слово в споре с внутренней рецензенткой бракуемых*, как ложноножки, вариантов вот этой статьи, статьи о фильме «Застава Ильича» (1964) Хуциева.
Ильич – это Ленин. Кино – политическое, грубо говоря. А моя рецензентка плохо переносит политическое: она включает правдоножку. Это значит, что она произносит мнение. Это мнение, будучи мнением её, ей свято, ибо оно ж – её! И всё: ни пройти, ни проехать. Никакие доводы на обладателя правды не действуют.
Что делать?
Ответ своим примером как бы даёт сам Хуциев в этом фильме: малозаметность политического (опять грубо говоря; я вообще люблю говорить грубо, не в соответствии с общепринятым стилем высказываний об искусстве – чтоб лишний раз показать, насколько я не согласен со всеми искусствоведами; ещё будет повод об этом поговорить).
Если вы, читатель, смотрели фильм «Застава Ильича», ответьте сами себе: вы заметили, помните, что кино и начинается, и кончается звуками «Интернационала»? – Если не заметили или не помните, то Хуциеву малозметность политического удалась.
В начале кино более помнятся просто шаги революционного караула, стук сапог по ночной мостовой вдоль трамвайного пути. Наверно, это на Заставе Ильича. 27-й и 32-й трамваи там ходили в 1919 году.
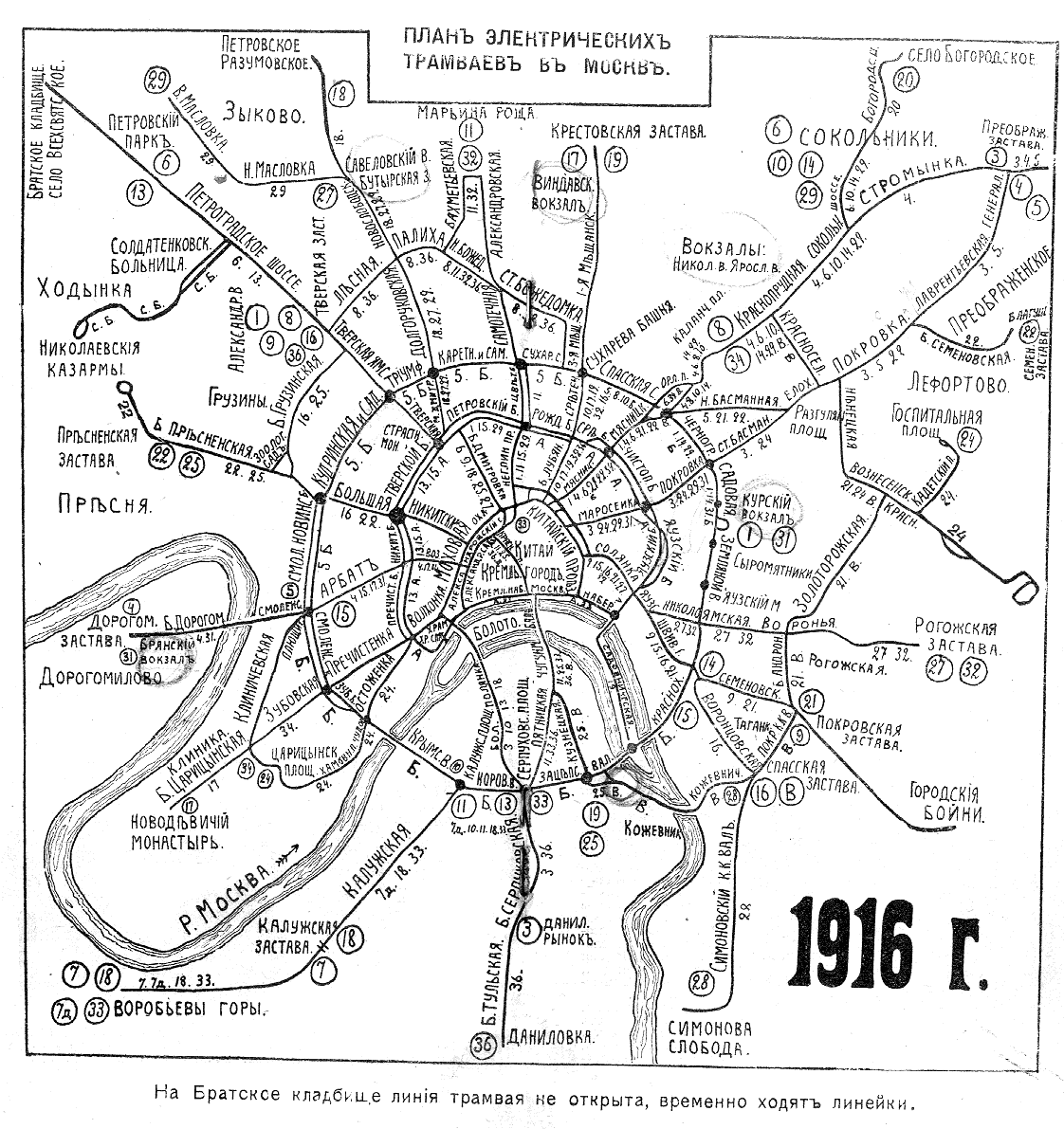
«В 1919 году Рогожская-Сенная площадь была переименована в площадь Ильича, а площадь Рогожской заставы переименовали в Заставу Ильича.
В 1955 году обе площади слиты в одну под названием площадь Ильича.
В 1992 году площади возвращено историческое название — площадь Рогожской заставы».
Я усматриваю и тут образ (опять незаметный): переименование в 55-м стирает память о революционности, ассоциирующейся со словом «застава». А Хуциева это не устраивает. И он бунтует названием своего фильма против власти, предающей коммунизм: мол, были люди в это время… В 1919 году… Не то, что нынешнее племя: и в 1964-м, и, тем более, в 1988-м… - (В 1964-м фильм подвергся цензурному урезанию и переименованию в аполитичное «Мне 20 лет» – тогдашней советской власти – лжесоветской, по сути предательской по отношению к коммунизму – не понравилась даже малозаметность настоящей, а не лживой коммунистической направленности фильма. А в 1988-м уже не было цензуры, зато и от коммунистической направленности зрителей почти ничего не осталось, и тем паче надо было, чтоб та оставалась малозаметной и не отторгаемой. А просто промолчать Хуциев в обоих случаях не мог.
Моя правдоножка наоборот: понимает, что политики в фильме и вовсе нет.
Её можно понять. Она любит книги и драгоценные камни. Знает в них толк. Покупает. Реставрацию капитализма в России считает естественной и возвращением к общечеловеческим ценностям. Им, думает, и посвящено кино «Мне 20 лет». Я же, во время оно (да и сейчас) будучи стихийным левым шестидесятником (левые были за вылечивание больного социализма до коммунизма, а правые – до капитализма), - я острее её чувствую образный смысл переименований кино и в городе. И благодарен ей: я должен деликатнее относиться к так называемой аполитичности среднего, или приближающегося к среднему, класса. Как деликатно отнёсся Хуциев к не знающей что делать московской молодёжи 60-х годов, и вот звучит мотив: «Весь мир голодных и рабов! Кипит наш разум возмущённый, и в смертный бой идти…», - в конце фильма и тоже теряется за всё увеличивающимся операторским вниманием к смене караула у мавзолея Ленину. Которая, смена караула, есть Липа. А не был Липой караул в 1919-м.
Впрочем, в кино, может, и не рабочие патрулируют, а чекисты.

В фуражках со звёздочками, в кожанках, сапогах…
Интернет по запросу "кожанка чекиста 1919" выдаёт такое:


И понять можно хуциевскую экипировку караула, мол, если были настоящие люди в 1919-м, то это чекисты в первую очередь. А теперь? В 1964-м? Когда был снят на плёнку кусок, вырезанный из-за цензуры…
«- Смешной мужик. Ты ведь его давно знаешь?
- Давно. Как здесь работаю. Магнитофон у него - блеск.
- Импортный?
- Да нет, сам сделал.
- Интересно, что ты о нём думаешь?
- Так общаемся иногда.
- Это правильно. Не надо было оставлять его. У нас все молодые, а он… Надо его как-то вовлекать.
- А вы бы предлагали к Порошенко в игру.
- Ты шутишь, а человек откалывается. Не от коллектива. Просто от людей. Ну что мы о нём знаем. Работает. Что ты о нём думаешь?
- В каком смысле?
- Ну что обычно думают о людях? Интересно проверить свои ощущения.
- Так вы хорошо знаете, как я к нему отношусь.
- Да работает ничего.
- Хорошо.
- Хорошо работает. Высказывается, как будто что-то…
- Человек с юмором.
- Да, человек с юмором. Высказывается с юмором, будто знает что-то такое, чего нам и не знать. Заметь, никогда не говорит до конца.
- По-моему, он всегда говорит то, что думает.
- Нет, Коля, так кажется. Для некоторых что надо? Ругает, значит уже хороший человек. А что? Как? С какими побуждениями?
- Что-то я вас не совсем понимаю.
- Знаешь, Коля, что сейчас ругать легче, чем хвалить. С работы не выгонят, авторитет повышается. Вот он как-то читал газету, а потом вслух при всех говорит: «Нельзя рекламировать наш строй, как холодильник».
- Вы ж сами смеялись.
- Коля. Мы говорим с тобой откровенно. Без свидетелей. Садись. Да, я смеялся понимаешь над чем? А что при этом думал он сам?
- Будто вы его совсем не знаете?
- Вот в этом-то и дело. На догадках, сам понимаешь, далеко не уедешь. Да не хочется, понимаешь, лезть в душу к человеку, что, мол, и как. Сам знаешь… Эти откровенные разговоры по душам с начальниками.
- Да-а. Я закурю?
- Кури, кури. Мы одни. Пожарников нету.
- Это всё ничего. Но вот такое дело… Поставь себя на моё место, пойми меня правильно. У некоторых товарищей не без основания сложилось мнение, что Владимир Васильевич некоторыми своими высказываниями, ну как это принято писать, дезориентирует наших ребят.
- Какие это товарищи?
- Ну, допустим, мне так показалось. Я в этом не уверен. Но может у меня сложиться такое мнение? Ну, если я ошибаюсь, всегда приятнее быть не правым. Владимир Васильевич тебе доверяет больше других. Ты его хорошо знаешь.
- Ну и что же?
- Никто не заставляет тебя на него наговаривать. Но нам без этого нельзя, старик. Доверяй, но проверяй. Для нас же спокойней, что мы, а не кто-нибудь.… Это и есть высшая форма доверия: мы, а не кто-нибудь.
- Ну, вы сами-то понимаете, что мне говорите?
- Да, я отвечаю за каждое своё слово.
- Если б мы не были одни, если бы так было, я бы набил тебе морду.
- Да? Ну и что ж мешает?
- Не люблю без свидетелей».
Правда и тут незаметной сделал Хуциев политику?
Смотрите.
«Кто-нибудь» - это КГБ. Лучше «мы, а не кто-нибудь», - всего лишь из карьерных соображений начальника, допустившего антигосударственное поползновение подчинённого, а не донёсшего на него до поползновения. Наконец, почему антигосударственное?
Что значит холодильник? – Это образ эпохи потребления, которая началась на планете с 20-х годов и вполне развернулась после Второй мировой войны. И не должна б затронуть страну, по-настоящему идущую к коммунизму, а не только на словах. А раз на словах, то КГБ защищает итоговую прокапиталистическую ориентацию страны, против чего Владимир Васильевич. И идти в услужение прокапитализму с его охранительными органами в виде КГБ Коле не хочется. Потому и в морду дать захотелось.
Касательно же капитализма – потребительское общество это новая его модификация, которую не предвидел Маркс и которую мог бы предвидеть, выведя массовое потребление из массового производства, при нём уже существовавшего в военном деле.
С учётом этой эпохи нужно переменить слова строк «Интернационала», мелодия которого звучит в самом конце, на такие: «Ни бог, ни царь и не герой. Добьёмся мы освобожденья своею собственной…»
Да, за год до создания фильма был продовольственный кризис в СССР. СССР был вообще страной перманентного дефицита. И его очередное обострение в 1988 году, - это год восстановления Хуциевым урезанного фильма, - вообще через три года убило страну и строй, называемый социалистическим. А на самом деле им не являвшийся, на что и намекает Владимир Васильевич. И что заметила и не смогла перенести власть в 1964-м, устами Хрущёва ещё раз сориентировавшая страну на прокапитализм лозунгом: «Догоним и перегоним Америку по потреблению на душу населения мяса и молока!» Но смешно подозревать левого шестидесятника Хуциева (левые были за лечения социализма до переориентации на коммунизм, а правые – на капитализм), - смешно подозревать Хуциева в таком же переживании, как в 1919-м: за «мир голодных». Хоть и пропал хлеб в магазинах в 1963-м, и пришлось пшеницу завозить из-за границы.
Если б Маркс додумался до эпохи потребления, он бы догадался о снижении революционности масс и согласился б с Прудоном, что строй надо менять не силой, а мирно или полумирно, организовывая и отстаивая самоорганизацию жизни и производства в местных масштабах, без центральной власти – Маркс бы сам стал анархо-синдикалистом, как Прудон. И в мелких самоуправлящихся ячейках дыхание коммунизма чувствовалось бы с самого начала. Это «само» живёт глубоко в менталитете человечества, как общинность и, как трава через асфальт, пробивается и пробивается в веках. В прошлом – в виде ересей и бунтов. А по Хуциеву, вспомнив про «своею собственной…», пробьётся-де в каком-то далёком сверхбудущем, раз терпит, вот, оно поражение в 1964-м и в 1988-м.
И всё это у Хуциева достаточно мало заметно.
Но власть заметила.
И, чтоб кино вышло на экраны в 65-м, Хуциеву пришлось убрать политику в диалоге начальника с Колей.
«- Смешной мужик. Ты ведь его давно знаешь?
- Давно. Как здесь работаю. Магнитофон у него - блеск.
- Импортный?
- Да нет, сам сделал.
- Интересно, что ты о нём думаешь?
- Хорошая машинка.
- Да нет, я о Владимире Васильевиче.
- В каком смысле?
- Ну что обычно думают о людях? Интересно проверить свои ощущения. Работает он, вроде, ничего.
- Так вы знаете, как я к нему отношусь. Нормально.
- Работает ничего.
- Хорошо работает.
- Да, работает хорошо. Высказывается иногда …
- Он человек с юмором.
- Да, человек с юмором. Но заметь, никогда не говорит до конца.
- По-моему, он всегда говорит то, что думает.
- Ну зря, по-моему, таких людей вообще нет.
- Почему?!
- Не знаю. Природа человека.
- Это вы слишком.
- С виду он, конечно, смелый. Даже резкий. Не всегда подбирает выражиния. Как он тогда о Филиппове-то?
- Он не подбирает, это он говорит. А что, не прав что ли? Сколько денег угрохали, а машина стоит. Ваш же Филиппов приложил к этому руку.
- Почему мой?
- Ну не ваш – мой. Какая разница, чей. Колупаемся, а потом спешку будем пороть. [Знаменитая штурмовщина в конце месяца и лень в начале.] Прав, прав старик, что тут говорить.
- Ну в этом смысле, может, он и прав. Отчасти. Хотя я с тобой до конца не согласен. Знаем мы эту смелость-принципиальность. Часто это оборачивается просто дешёвым эффектом. Зарабатывает популярность.
- Что-то я вас не совсем понимаю.
- А чё тут не понимать?
- Да ерунда. Да вы совсем не знаете его.
- Эт-то правильно. Знаю я его мало. Давай покурим. Мы здесь вдвоём. И пожарников нет.
- Хэ-хэ.
- Слушай. Хочу с тобой поговорить откровенно. Без свидетелей. Поставь себя на моё место. Пойми меня правильно. У некоторых товарищей…
- Да.
- Очевидно, не без оснований сложилось впечатление, что Владимир Васильевич некоторыми своими высказываниями дезориентирует.
- У каких это товарищей?
- Ну, я не могу тебе это…
- У Филиппова, что ли?
- Ну почему у Филиппова? При чём тут Филиппов? Есть кое-кто и…
- Кто?
- Ну я не могу тебе этого сказать… Ну, допустим, мне так кажется. Хотя я в этом не убеждён. Ну может у меня сложиться такое мнение? Может? Может у меня сложиться естественное желание проверить своё впечатление? Ну, если я ошибаюсь, тем лучше. Всегда в таких случаях приятно оказаться не правым. Садись. Владимир Васильевич доверяет тебе больше других. Ты его хорошо знаешь. Ну я понимаю, тебе несколько неловко. Никто не заставляет тебя на него наговаривать. Но без этого нельзя, старик. Доверяй, но проверяй.
- Какие же это товарищи?
- Ну Филиппов, Филиппов. Только ты меня не выдай. Чудак. Тебе бы нисколько не помешало. Нам с тобой его поддержка знаешь, как понадобилась бы? Его лаборатория сейчас начинает разрабатывать новую модель. Нужны будут люди. Там перспективная разработка. Просто. Я могу быть с тобой откровенным. Чего мне от тебя скрывать. Ну в конце концов… ну кто тебе Владимир Васильевич? Брат? Собрат? Близкий человек?
- Да… Конечно…
Я это как-то видел его с одной молодой девкой. Может, дочь? А может и… а?
- Ну-ну. Хорошо.
- Если б мы не были одни, если бы так было, я бы набил тебе морду.
- А что же мешает?
- Не люблю без свидетелей».
Осталось простое подсиживание ради карьеры. Политика исчезла, и картину пропустили в прокат.
(Политика, впрочем, не напрочь исчезла и тут. Остался анархо-синдикалистский бунт подчинённого, Владимира Васильевича, против начальника лаборатории Филиппова. Но анархизму так не повезло в ХХ веке… Ещё больше, чем Прудону против Маркса в веке XIX. Анархизм бы мог прогреметь в ХХ веке так же, как госсоциализм, фашизм и всех победивший либерализм. Но Махно его так опозорил в начале века, что ко времени левых шестидесятников, бывших за самоупроавление против тоталитаризма, сами эти левые шестидесятники своего прудонизма не осознавали. Думали, что они просто за гражданскую активность, за которую была и власть – так же только на словах, как и за коммунизм. Поэтому взбрык Владимира Васильевича и реакция на него были властью и всеми оценены как взаимное подсиживание. То есть – без политики.)
При таком сравнении, конечно, не может быть речи об отсутствии политики хотя бы в неподцензурном варианте. Но кто из простых зрителей так сравнивает? Никто. – И малозаметность её торжествует. И с нею, увы, – поверхностное отношение к кино.
А поверхностною, мне приходится счесть и саму образность, выражение чем-то чего-то. Как, например, это было с рассмотренными выше элементами «текста» произведения: названием фильма, соотношением караулов в начале и конце фильма, холодильником и подразумеваемыми в связи с холодильником словами «Интернационала».
Тот факт, что перечисленные элементы малозаметны, говорит лишь о том, что образность эта оказалась нарочито скрытой, и потому пришлось обращать на неё внимание и пояснять её значение.
Глубокое же отношение к кино заставляет говорить о принципиальной скрытости, о выражении Хуциевым своего в какой-то степени подсознательного – сверхисторического оптимизма: что коммунизм, как нестяжательское, разумное потребление каждым, победит в итоге итогов.
Сверхисторический оптимизм сам по себе настолько труднопостижимый тип ценности, что осознание её художником при выражении даже и «почти в лоб» (образно) не превращает выраженное в иллюстрацию уже знаемого. Как это и происходит со словами «своею собственной (рукой)», выражающими самоуправление, самодеятельность, жизнь без центральной власти.
Я понимаю, как отторгает простого читателя и сама политичность темы, и сама сложность эстетической стороны предмета. Но что поделать. Может, остались ещё любители, иносказательно говоря, не только лёгкой музыки, но и симфонической…
Итак, приступаем к разбору выражения, возможно, подсознательного у Хуциева. Оно всегда осуществляется противоречиями «текста».
Что имели мы, зрители, и Хуциев в действительности? – Отвращение к Липе советского. Когда Рейган потом назвал СССР царством Зла, я переназвал для себя СССР царством Лжи. А вскоре стал душою за ГКЧП, когда СССР покачнулся. Хуциев, наверно, – тоже, раз чуть ранее опять обратился к своему старому фильму и восстановил его. Как стихийные прудонисты в душе мы, наверно, уважали мирную революцию, а не – с жертвами человеческими (то ерунда, что в дни ГКЧП их было только 3, считать, во что обошлась реставрация капитализма в одной России, – это будут миллионы досрочных смертей). Я думаю, что моё подсознание говорило мне, что сама чудовищность Лжи способна обеспечить своё мирное уничтожение ради коммунизма. И потому я так переменился к СССР. И потому же, подозреваю, Хуциев вспомнил про свой урезанный фильм.
Лично я именно в 1988-м написал Горбачёву письмо с вопросом, действительно ли он незаметно ведёт страну к реставрации капитализма, как это следует из его политики. Лично мне он не ответил, но ответил выступлением с намёком, что да.
Хуциев, по-моему, был таким же провидцем. А Ложь – тоже ненавидел.
И как ему было весь этот комплекс ненависти и надежды на сверхбудущее выразить? – Утрированным показом того рая (а мы таки жили в неком рае при Брежневе, что лично я вслух говорил своим сослуживицам-подчинённым, укоряя их за нерадивость, как хуциевский Владимир Васильевич укорял начальника лаборатории Филиппова).
Хуциев для утрированности воспользовался методом Феллини. Оба дурную бесконечность сняли. Потенциальную. Вызывающую нуду и желание взорваться. Взорваться в другую бесконечность – в актуальную.
Только Феллини эту актуальную понимал по-ницшеански, а Хуциев – по-коммунистически. Оба идеала – экстремистские. Оба требуют невиданных людей. Может, и невозможных в природе. Как непонятны слова девочки в финале «Сладкой жизни» Феллини. Как непонятно в конце, как же у Серёжи в Аней-то. Один идеал – индивидуалистский, другой – коллективистский. Оба – где-то революционны. Один – якобы революционный. Требует себя изменить до состояния улёта. Выскочить из обычного мира в какой-то метафизический мир над Добром и Злом. Другой – просто революционный. Требующий самоизменения людей. Причём, в соответствии с их же самих пожеланием. Ибо осталась ещё инерция Октябрьской Революции аж и через почти полвека. Такой мощный импульс был ТОГДА для самоуправления своею собственной рукой. А борются оба художника, Феллини и Хуциев, с одним и тем же врагом – мещанством, бытовухой, нудной повторяемостью. Борются – утрированием. Уж какие женщины и вообще успех у героя Феллини… И уж как разнообразно веселятся хуциевские группки народа, празднующего Первомай… Но это показано ТАК затянуто, что ты, зритель, выскакиваешь в какую-то иную жизнь от непереносимости.
Перед нами знакомые по Выготскому сочувствие + противочувствие = катарсис. Если же последний осознать – и будет иная жизнь.
Перед нами упоминавшаяся чрезвычайная сложность. И упоминавшейся повод для несогласия со всеми искусствоведами, игнорирующими это явление природы, психологии, как игнорировало духовенство пятна на солнце, открытые Галилеем. Только прелатам достаточно было просто один раз подойти к галилеевскому телескопу с закопчённым стеклом, чтоб увидеть. А искусствоведам едва ли не с каждым художественным произведением пришлось бы пройти через изрядные духовные муки, чтоб обнаружить в «тексте» противоречия, возбуждающие сочувствие и противочувствие, и чтоб случилось озарение от осознания результата столкновения тех переживаний.
Мне тоже это каждый раз чрезвычайно трудно. Вернитесь, читатель, к словам: «Утрированным показом того рая». Вдумайтесь, на что это ответ. Это ответ на вопрос, предполагающий, что есть то ЧЕМ, которым «почти в лоб», т.е образно, можно выразить ЧТО. То есть и я то и дело срываюсь с пути открывания чего-то более сложного, чем «ЧТО - ЧЕМ». (Оно и верно. Иначе не случалось бы непосредственное и непринуждённое испытание сокровенного, для которого одного, для испытания, только и предназначено искусство, - и больше ничто на свете, - искусство, в отличие от прикладного, называемое идеологическим.)
Понимаете, чем нравятся массам так называемое экшн, действие? – Простотой. Понятностью. А сложность чревата непонятностью. Как та амёба из вступления: без ошибок не ест. А ведь может же быть ошибка процесса восприятия: из-за незнания, что будет дальше. Вот, например, Аня, главная героиня, как главная появляется ж только где-то на 50-й минуте первой серии, длящейся час. Я смотрел фильм первый раз и не знал же, что она появится. А до неё Хуциев вполне развернул ужас существования без божества, без вдохновенья, без слёз, без жизни, без любви.
И – я переживал то, что смотрел, в духе вовсе не прокоммунистическом. Даже я, склонный, правда, к ницшеанству – за его мистицизм и метафизику.
Экзистенциализм – есть такой вариант ницшеанства… Жуть-де, что нет счастья. Миг за мигом улетают, а счастья нет. А вот оно мелькнуло (Аня Сергею в автобусе понравилась) и… исчезнет же! Ну он выскочил из автобуса, пошёл за ней… Но ведь обществом не принято ж знакомиться на улице – неприлично. Аморально. Надо б – против морали!.. Выскочить из обычности… И будет счастье. Но нет. Обычность слишком сильна. Сергей так и не решился подойти.
Наступила очень.
«- А что, если это было то самое? Единственное в жизни…»
(И тут – знакомство с КАКОЙ-ТО девушкой…
Хуциев настолько принципиален, что мы так и не вникаем, кто она. Собственно, и не видим. Монтажом режиссёр показывает Сергея на подушке. Проснулся. Где-то у неё, понимай. Но увидеть её нам не дано. Нам дано через окно увидеть, что наступила зима. Затем ничего, в сущности, не произошло на экране, и наступила весна. Капель. А тут и Первомай.)
Первомай. Вот, казалось бы, торжество самодеятельности. Все веселятся, каждый – на свой лад. Но я знаю, что на демонстрацию сгоняли добровольно-принудительно по месту учёбы или работы. – И… всё это счастливое разнообразие веселья предстаёт жутью… безнадёжно уходящих тысяч и тысяч секунд без счастья. Которое может так никогда и не случится. – Я плакал, как маленький, пока шёл этот ералаш праздника. Якобы счастья…
За одну долготу показа этого… я понимаю, почему тоталитарная власть оскорбилась фильмом Хуциева. – Марш экзистенциализму. Сладостно траурный марш. Ибо из-за недостижимости счастья в этом мире, какой же иной марш может быть? – А с экрана – счастливая музыка, песни… Минута, другая, десятая…
Жуть.
Может, за это-то (за смысл, а не только за форму) как раз Феллини Хуциева и ценил…
А Хуциев же против Феллини фильм сделал, дав ему такую фору, вот, только что описанную, дескать, нет в жизни счастья без любви, а та – недостижима (какие б красавицы вокруг не вились, а если и простая девушка в финальных феллиниевских кадрах… так она на той стороне… её не слышно… как бы легко девушка ни досталась хуциевскому Сергею…). Хуциев в пику Феллини и себе таки ДАЛ взаимную любовь. И… Любви мало одной любви!.. Таким, как эти, – надо ещё социальное творчество, которого требует построение коммунизма. А того нет. И. Хуциев даёт образ тупика: как с испорченной пластинки четыре раза звучит после концерта в Политехническом:
«Аня: Ты меня любишь?
Серёжа: А ты меня?»
Три раза с равными промежутками, четвёртый – через паузу вдвое длиннее.
Они только что из Политехнического музея.
Я опять ввернул коммунизм и социальное творчество… Грубо. Не обосновав.
Не сердитесь. Обосную.
А пока хочу вас нагрузить ещё одной трудностью постижения, постижения сцены в Политехническом музее: это то же, что Первомай, или другое?
Может, сцена эта не для меня, а для непривычного к стихам, трудной в постижении не была бы и вызвала б такую же нуду своей долготой, как и Первомай.
Здесь надо объяснить.
Я 40 советских лет прожил в Литве. Там тоталитаризм был послабее. Работник я был ценный. И мне спускали, что я не ходил отправлять такой лживый ритуал, как демонстрации на 7 ноября и 1 мая. Мне непривычна стала затяжная скука этих демонстраций. И я остро среагировал на хуциевскую провокационную долготу показа «радостного» Первомая.
Бесконечные же выступления поэтов в Политехническом своим порывом мне, прокоммунисту, бальзам лили на сердце. 14 минут с краткими перерывами на аплодисменты разные поэты со сцены, показанные крупным планом, рвали душу благодарным слушателям и, казалось, наяву делали весь собравшийся в огромном зале неравнодушный народ возвышенными людьми, небывалыми, уже готовыми для жизни при коммунизме. – Большущая затяжка для тех, кто к стихам глух… И лишь память о ложноножке невозможности личного счастья на таком весёлом Первомае понуждала меня подозревать и сцену в Политехническом подобием того Первомая.
А это не так. В Политехнический ходили не добровольно-принудительно.
У Хуциева есть разные затяжки. Когда есть цель – затяжка таковою не кажется.
Подряд две минуты шагает революционный патруль в начале фильма. И это не успевает надоесть не только из-за разнообразящих экранную плоскость титров о фильме, не только из-за того, что снимаются чекисты то спереди, то сзади – по ходу поворачивающего трамвайного пути, не только из-за того, что, проходя как бы мимо нас, один из патруля оглядывается в объектив, тем приглашая нас приобщиться к их, патруля, переживаниям. И не только потому не надоедает, что мы ещё свежи и только приготовились вникать, что будет. А ещё и потому, что, сразу понимая, что это – революционный патруль, и уже вникнув, мы сочувствуем осмысленному существованию тех людей. Что нам та затяжка показа…
Через короткую перебивку куда-то спешащими и не спешащими на рассвете москвичами, нам даётся следующая затяжка (1,5 минуты) с шагающим солдатом с чемоданчиком. Возвращается из армии. Он тоже имеет цель – дом свой, раздеться до трусов, выспаться. И смотреть его однообразные шаги тоже не надоедает.
А полётная сцена с поэтами в Политехническом дезавуируется иначе. Так, как этому культурному мероприятию и его снижению уподоблено другое культурное мероприятие, предшествующее, посещение картинной галереи Аней и Серёжей.
Под почему-то прыгающую мелодию песни «Песни о тревожной молодости» (И снег, и ветер, И звёзд ночной полёт) за кадром – в кадре люди плавно ходят и смотрят картины и скульптуры. Слышится поверхностный говор ни во что не вникающих глубоко журналистов и экскурсоводов. И чем это кончается?
«- Ну пойдём.
- М?
- Пойдём, пойдём.
- Куда?
- Я покажу тебе свои любимые произведения.
- А-а-а. Ну пойдём.
- Ох, как здорово… Как здорово… (говорит Аня, выбирая уголок поглуше)
- Где же твои любимые произведения?
- А вот.
(Сергей оглядывается и не находит произведений.)
- Где вот? (Они идут друг на друга)
- Ну вот. (Она обнимает его за локти, приближает к себе и целует в шею) Вот (радостно и сквозь сдерживаемый смех)».
И Сергей читает отскочившей Ане отрывок из письма Онегина Татьяне.
Оно, конечно, нахлынувшему чувству не прикажешь, но в воле режиссёра было именно так прервать культурное мероприятие.
Я это понимаю на свой лад.
Если материальное потребление не главное при коммунизме, то оно должно б быть замещено неограниченным духовным потреблением. Так не готовы, оказывается, люди ко второму, хоть уже и готовы к первому. По крайней мере – главные герои.
(Вот и опять – политика, и опять – грубо…)
А теперь вдумаемся, чем закончил Хуциев волнующую и духоподъёмную связку выступлений поэтов в Политехническом – «Сентиментальным маршем» Окуджавы (1957. «И комиссары в пыльных шлемах Склонятся молча надо мной). Прощанием с надеждой построить коммунизм при жизни. Переходом в сверхисторический оптимизм. Который есть исторический пессимизм. С потрясающими лицами слушателей в зале.



Надо ли писать, что я опять плакал?.. Когда зал вдруг подхватил последние слова.
У меня всегда наворачиваются слёзы, если я мысленно пою эту песню, и никого вокруг нет.
(Ничего, что я опять про политику?.. Простите. Очень горько, что такую идею загубили.)
А в кино следом идёт катастрофическое снижение после возвышающих выступлений поэтов, после такой песни и после таких вот лиц слушателей.
«- Товарищи! Мне даже удивительно, как я здесь.
(Смеётся)
Это просто чудо. Я сегодня только приехала из Воронежа, не успела там в гостинице остановиться, и вот, можно сказать, в таком виде я оказалась здесь.
(Смех в зале)
Я просто счастлива. Я хочу сказать большое спасибо Андрею Вознесенскому, Евгению Евтушенко. Я знаю их давно.
(Смех в зале)
Я знаю их стихи. И вот… Ой, даже не знаю… Недавно Была опубликована в Литературной Газете статья Николая Асеева «Как быть Вознесенским». Действительно, как быть Вознесенским?
(Затыкающие болтунью аплодисменты зала)».
И т.д.
С итоговым апофеозом от советского держиморды:
«На что обратил внимание. Прежде всего у всех этих поэтов какая-то мрачность, понимаете, тона.
(Смех в зале)
Но как? Чем-то такое как бы… Чем-то недовольны. Что-то их гнетёт. Мало хорошего.
(Прерывающие аплодисменты в зале)
Хорошего мало. А у нас в жизни, товарищи, столько прекрасных, хороших примеров. На них нужно учить.
(Аплодисменты не дают говорить)
Тут уже пели дифирамбы товарищу Евтушенко. Я их, понимаете, поддерживаю. Талантливый поэт. Хороший. Но почему-то так, почему-то… я вот обижен. О нашей советской армии…
(Аплодисменты)
Если кончить, я уже кончаю, товарищи. Товарищи, мне хочется пожелать поэтам, чтоб они действительно показывали больше хорошего, учили на нашем хорошем, не забывали о нашей армии доблестной. Да? А мы со своей стороны сделаем всё, понимаете, чтоб они трудились и так далее. Мы со своей стороны… я как представитель вооружённых сил заявляю – словами Маяковского – кто не захочет протягивать руки, заставим протянуть ноги. Кто не делает, понимаете, своё дело».
И вот так опущенный полёт (образ того, как притесняют левых шестидесятников) власть Хуциеву тоже не могла пропустить. И ему пришлось урезать и полёт, и реакцию идиотов на него.
Чем не политика?
Ну бог с нею. Но, хоть зал и прерывал непутёвых выступающих… Но это были шутливые прерывания, со смехом. И – какое-то впечатление… не готовы и самые готовые для коммунизма. Не на ниве искусства должно б быть движение к нему. Где ж?
Семья?
После Политехнического Аня огорошивает Серёжу, что ушла из дома. Из-за мещанства родителей. Запаковала чемоданчик и попрощалась. И – где жить? У знакомых по одной ночи по очереди?..
«Сергей (мысленно). Надо, наверно, ей что-нибудь сказать? Что сказать?
Аня: Ничего не надо говорить…
(Танцуют в гостях у кого-то [раз из дома она ушла])
Сергей: Если б у тебя был сын, как бы ты его назвала?
Аня: Не знаю.
- А если дочь?
- Не знаю».
И не в семье дело…
Что ж, если ни семья, ни культура, ни любовь?..
Она студентка… Парни – работают… По тому, что на работе у Коли, видно, что и в той сфере с личной свободой плохо.
Что ж тогда? Продолжение Великих строек коммунизма – великие советские стройки Сибири?
Как сказала Аня: «Наверно, мы живём плохо, неправильно. Где ж та самая правильная, полная жизнь? Говорят, она находится в Сибири. Нельзя же всем взять и уехать в Сибирь».
Комментарии излишни.
В общем, нет исторического оптимизма у прокоммунистов ни в империи Лжи, ни в ожидаемом в 1988-м году возвращении к якобы естественному строю, к капитализму. Выхода – нет, а терпимости к этому факту – тоже нет. Это противоречие. Весь фильм – как взведение пружины. «Значит, - хотел сказать Хуциев, - выход в иномирии, в сверхисторическом оптимизме». Ни бог, ни царь, и ни герой, а лучшее в нас, в нашем менталитете… А тот живёт тысячелетиями.
Я вздумал смотреть «Заставу Ильича», наткнувшись недавно на телевизионную встречу с Любшиным, в том кино игравшим и забавно рассказавшим, как почтил Хуциева Феллини, будучи в Москве после выхода на экраны кино «Мне 20 лет».
Посмотрел и усматриваю, что есть даже некая актуальность в этом печально-упорном фильме «Застава Ильича». Актуальность не по аналогии, а по антитезе… событиям на Украине.
(Грубое ли привлечение политики?)
На Украине мечтают о возрождении наподобие того, какое пережила Германия после войны. Экономическое чудо Эрхарда. А Украина ж – это почти Россия – вот и… Антитеза.
Часть Украины ментально – рвёт с Россией. Хуциев же – в 1964-м в урезанном фильме и в 1988-м в неурезанном – создал реквием по тому, от чего (в модифицированном виде) желает уйти часть украинской элиты. Модификация в том, что Россия теперь возвращается к субъектности с сохранением собственной идентичности, что в этом виде не нужно украинским олигархам. Они в субъектности и в сохранении идентичности видят разновидность СССР. Видят – не видят, но их СМИ так внушают народу. Страны-де делятся на цивилизованные и нецивилизованные. Украина переходит к первым, Россия остаётся среди вторых, остаётся сырьевым придатком. Первые-де – свободные, вольные, демократичные. В России, соответственно, несвободные, невольные недемократичные.
Самая яркая демократичность – в Швейцарии. Чуть что – референдум. Несколько недель тому назад был очередной. Отказался народ от законодательно закреплённой минимальной (самой высокой в мире) зарплаты. Пусть каждый выбивает себе у работодателя столько денег за свою работу, сколько сможет. Даже самый неумёха выбивать – тоже. (Каждый же думает про себя, что он – умеет выбивать, что он – ого, не чета другим.) Да здравствует-де самообеспечение личности! И долой-де вмешательство социума, долой гарантированное, государственное, социальное обеспечение. Больше, мол, мне удастся для себя выбить, если кому-то не удастся то же. И так – все будут-де рваться. И так – всем в итоге будет, мол, лучше.
А не, как в России, мол: чем гарантированнее зарплата, тем лучше. Словно общество слабаков. Неуверенных в себе. Из-за гарантированности не будет-де большого рвения. И – в итоге всем хуже. Как бандерлогам, мол, обработанным чудовищной пропагандирующей мантрой. Как недочеловекам. Как птицам, рождённым в клетке и думающим, что полёт – это болезнь. – Если Россия – это продолжение сталинского СССР, то Украина – наконец, освободившаяся от патерналистского морока страна. Пусть и насильно, но освободившаяся. (Это я применил лексику депутата Одесского горсовета Спивака, огрызнувшегося Михалкову.)
Украина – не Европа (если иметь в виду лучшие европейские образцы), на ней воцарилось варварство, проявляющее себя бандитским майданом, чудовищным вандализмом, попыткой запретить русский язык, 1.1 процента проголосовавших в Раду за нацистов, игнорированием референдума юго-восточного народа о федерализме, инферно в Одессе, частными олигархическими армиями, блокадами и убийством мирного населения.
Тогда как Хуциев, совсем не одобряя радикально антипатерналистского Колю, возмущённого пусть и потенциальным, но всепроникновением КГБ, - Хуциев грустит от предвидения естественного, без насилия, перехода страны к антипатернализму. (Актуальным аналогом антипатернализма теперь является неолиберализм, начавшийся со времён Тэтчер. А аналогом патернализма теперь является отсталая-де политика социального государства, что вписано в статью. 7 Конституции РФ и в статью 1 Конституции Украины.)
Было, видимо, в том патернализме в СССР что-то хорошее, чего не станет там,- глядя из 1964-го и 1988-го, - куда мечтает прийти Украина. А у России было то хорошее и навсегда останется: ментальная склонность к коммунизму.
Ведь коммунизм – это каждому по разумным потребностям. То есть с каждым днём прокоммунисты, кем являются герои фильма, всё меньше внимания обращают на потребление. Ещё вчера Аня, скрепив сердце, жила с родителями-мещанами. А сегодня запаковала чемоданчик с вещами и, выходя из дому, попрощалась с родителями, объявив, что больше домой не вернётся.
А жить где?
А даже вопроса такого у неё не возникло. Ни тени того, к чему теперь очертя голову устремилась Украина, думая всячески оторваться от России, от её тысячелетнего менталитета (главное – настроение сердца, как сказал Феофан Затворник об этом менталитете).
Чемоданчик вскоре потерян. И – никакой досады!
Ну чем не антиукраинская актуальность?
* - Здесь http://film-trailer.ru/film/zastava-ilicha/14567/ пример того, случая, когда я не посоветовался и опубликовал. Статья оказалась ошибочной.
16.06.2014
Последние публикации:
Как постичь и оценить художника –
(12/07/2016)
Торжество идеи значимости подсознательного –
(11/05/2016)
Жизнь не в своей тарелке –
(13/04/2016)
Страшная правда –
(04/04/2016)
Зачем стояли на выставку Серова –
(25/02/2016)
К 179-й годовщине дня смерти Пушкина –
(12/02/2016)
О фильме Г. Данелии «Я шагаю по Москве» –
(28/10/2015)
Переиначенный Чехов –
(22/09/2015)
Марш в тупик! –
(12/08/2015)
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

