Записки блокадного человека
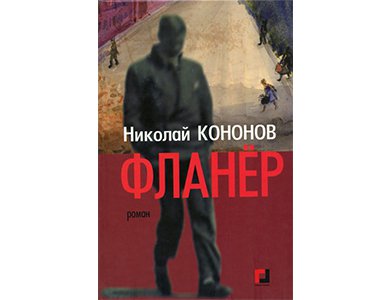 Важность этой книги заключается ещё и в том, что она балансирует между fiction и non-fiction, окончательно не становясь ни тем, ни другим. Ныне, когда для умных книг сюжет не главное (впрочем, как и тема, тематическое расширение) успех заключается в балансировании между двумя этими подходами, в сочетании и соединении надуманного и пережитого. В том, какую пропорцию между этими двумя берегами автор выстраивает.
Важность этой книги заключается ещё и в том, что она балансирует между fiction и non-fiction, окончательно не становясь ни тем, ни другим. Ныне, когда для умных книг сюжет не главное (впрочем, как и тема, тематическое расширение) успех заключается в балансировании между двумя этими подходами, в сочетании и соединении надуманного и пережитого. В том, какую пропорцию между этими двумя берегами автор выстраивает.
Кононов пишет вымышленные мемуары, в которых главное – не фабула, кажущаяся несколько надуманной, хотя и отчаянно точной (об этом ниже), но постоянные остановки и замедления, перенастройка оптики на самый что ни на есть микроуровень, где самое существенное – фиксация [как можно более точная] самого вещества уже даже не уходящей, но ушедшей жизни.
Тридцатые и сороковые годы ХХ века. «Фланёр» - история поляка, потерявшего родину и любимого человека, из-за чего жизнь его заканчивается как бы до конца жизни, из-за чего на всю оставшуюся включаются оголтелый фатализм и непротивление внешним обстоятельствам – войне, случайной эмиграции в СССР, ещё более случайным встречам, скитанию по окраинам империи, полной анонимности бытия.
Все эти события (пару раз Кононов даже намечает кой-какую интригу в романном, даже и детективном духе, однако же, обозначив мизансцену, тут же отпускает её на волю, переставая интересоваться обстоятельствами, тут же зарастающими самосевом подробностей) важны ему как повод для физиологически точных, вызывающих узнавание и удивление описаний едва уловимых, кое как осязаемых ощущений.
Цвет, свет, запахи (! Между прочим, один из первых признаков качества текстуальной вязи), физическая суть человеков и окружающих этих людей пространств, уже даже не облаков, хотя и их тоже, но сквозняков и излучений.
Примерно понятно как такие совершенно непонятно из чего и как вылепленные сгустки вещества выписываются – важно замереть, некоторое время вызывая в памяти то или иное ощущение («храмы – мебель бога»), прислушиваться к рецепторам, как внешним, так и внутренним, обеспечивая связи между аминокислотами, вспыхивающими ассоциативными завязями и словами.
То напрягая, то отпуская на волю мускулы изнанки затылка и границы бокового зрения.
Чаще всего так стихи пишутся, точнее, писались, раньше, когда поэзия ещё работала со смыслами, а не оболочками чувств, теперь подобные, тончащего письма, озарения с обкусанными краями, перекочевали, перекочёвывают в прозу, загружающую себе на борт всё то, «что нам негоже»…
Так Бродский характеризовал дневниковые записи Цветаевой: "Читатель всё время имеет дело не с линейным (аналитическим) развитием, но с кристаллообразным (синтетическим) ростком мысли..."
Самое важное в таких текстах - узнавание, конкретная и осязаемая передача отловленного опыта; то, что у Гинзбург перенимает, ну, например, Андрей Битов, а теперь и Николай Кононов, кажется, и не скрывающий, что любые нарративные развороты – лишь возможность остановиться и врасти в землю там, где стоишь.
Для того, чтобы уже ничто не мешало аминокислотам выстраивать ряды умозрительных подобий.
Буквальный, во всех смыслах физиологический очерк. Улица. Трамвай. Витрина. Пивной киоск. Берег. Подъезд. Ресторан. Парикмахерская. Соседка. Всё, что угодно. Комната. Бумажный лист. Телеграфский бланк. Главпочтамт.
В стране, бедной всем, даже впечатлениями (возможностями впечатлений), ограниченный расползающейся материей, ты должен уметь извлекать витамины из чего угодно - звука, взгляда, облака. Блика на стекле, запаха, даже мусора. Сплошная бесхолестериновая диета. Кислородное голоданье.
Так и возникает едва ли не топологически ощутимый город, в котором зашифрован родной автору Саратов (часть от non-fiction), антикварная жизнь, дышащая на особицу, совсем не то, что теперь, заново воскрешённая им, реконструированная и во второй, что ли, раз пережитая с помощью вымышленного персонажа, наделённого, впрочем, точностью кононовского чутья.
Автор не даром наделяет его двумя степенями отчуждения, делая его, во-первых, иностранцем, случайно попавшим в чрево Империи, а, во-вторых, гомосексуалистом, избыточно чуждым «простым», народным», «понятным» коллективным ценностям. Советским сюжетам тотальных упрощений.
Кононову важно зафиксировать и текстуально воскресить двойную невидимую Атлантиду того, чего нет – внезапно рассеявшийся, будто его никогда и не было вовсе, социалистический быт и, по всей видимости, активно существовавший внутри него другой невидимый мир – всевозможных сексуальных и уголовных субкультур, подменённых при выходе «на люди» классовым и социальным однообразием.
То, что было незримым даже когда было, стало таким же невидимым и несуществующим как огромный мир, внутри которого оно нездешнее трепыхалось.
Перефразируя девиз Капитана Немо («подвижный в подвижном») неназванного персонажа Кононова можно обозначить как «невидимого в незримом», когда даже несоразмерности оказываются «в тему» (зрелый модернизм вполне лоялен к искажениям и даже нуждается в них, живёт ими).
Из-за особой длительности описаний хронотоп тоже вытягивается, давая удлинённые тени, из-за чего роман, состоящий из импрессионистических плёнок, начинает отдавать сыростью эпоса: Кононов так тщательно выписывает взаимоотношения охранника и заключённого в столыпинском вагоне, что начинает казаться – едут-то они кафкианскую вечность, тогда как приезжают не на край света, но всего-то в Саратов.
А ещё необычайно чуткий, рефлексивный и гипертрофированный интуит, персонаж Кононова делает самый важный шаг в своей жизни (садится на пароход, везущий его в СССР) с поразительной, поражающей необдуманностью. Лёгкостью балетного кузнечика.
Оно понятно почему: наблюдая за водой, окружающей Мальту, писатель должен был двигать книгу (уже не через картинки, но ситуации) дальше, вот и придумал пустить персонажа туда, где всё до боли знакомо.
Кажется, книга эта могла из одного этого взгляда на жирную и, в потёмках напоминающую нефть, морскую воду зародиться – когда ты знаешь, что завтра тебе возвращаться на родину, а, блин, как не хочется.
Так, перечитывая недавно «Архипелаг ГУЛАГ», я, обладающий опытом некоторой исторической дистанции, вдруг задумался о том как этот опыт современного сознания мог бы помочь мне, вдруг окажись я в ситуации условного тотального и тоталитарного 37-го года. От тюрьмы и сумы не зарекайся.
В России всё возможно, любые возвращения и любые извращения, поэтому как то, что уровень моего [исторического и социального] мышления выше, чем у жителей роковых сороковых-пятидесятых, помогло бы мне в ситуации репрессивного рецидива?
Я стал думать, прикидывать, мысль моя заметалась, приходя к очевидному и лежащему на поверхности выводу: когда границы закрыты, то никак. Обречён.
Солженицын детально описывает самые разные социальные и профессиональные страты, поводы и страхи, которые не давали ни одного повода к спасению. Ни на севере, ни на юге. Ни в городе, ни в деревне. Ни в низине социальной пирамиды, ни, тем более, на самой её верхотуре.
Кононов как раз и показывает такого неожиданно (и, разумеется, случайно) уцелевшего в репрессиях человека, безвольно «плывущего» по воле исторических судорог, но, при этом, скрупулёзно фиксирующего то, что происходит со всеми его органами чувств, которых, кажется, у него больше, чем у обычного человека. Озирает собственную изнанку. От этого, и без того медленный текст, замедляется ещё больше, однако, скучно не становится ни на минуту, так как любой абзац, любой период набит такими внутренними неожиданностями, что никогда не знаешь чего ж от него ждать…
«Фланёр» точно не на компьютере, но от руки написан; причём, видимо, каждая фраза проговаривалась вслух и записывалась лишь когда кровоточила или искрила; из-за чего текст кажется крайне подвижным – он точно разворачивается в том месте, где ты его в данный момент читаешь, разглаживается и, точно помещается на ярко освещённую сцену, а затем использованным местом скукоживается, так как оно уступает сцену каким-то новым выступающим вперед фразам. Его смакуешь в режиме реального времени, так как второго такого переживания больше не будет, даже если напрочь забыть содержание книги (не говоря уже о всех метафорах и сравнениях, которыми он сочится), ты сам будешь уже иным, твоё время изменится точно так же, как и твоё восприятие. Да и всё поменяется – месяц, время суток, возраст, голод, год. Состав воздуха, мало ли что ещё...
Больше всего этот роман напомнил мне фильмы Алексея Германа, с тщательно выстроенной и дублирующей реальность, спонтанностью; «Фланёр», сначала бегущий из тюремного поезда на волю, а затем, с купейного на плацкартный, перебирающийся вглубь СССР, растворяется в пейзаже совсем как герой «Хрусталёв, Машину», которого в финале этого великого фильма точно так же поглощает чавкающее, брызгающее снежной слюной, пространство.
Однако, полнота переживаний (и передачи их) делает этого «Хрусталёва» отчаянно цветным, переснятым, что ли, на цифру, точнее, пропущенным через специальные ретро-фильтры – кажется, немного состаренные, в духе Инстаграма, изображения – самое актуальное, что есть теперь в современном искусстве.
Именно этот подход и делает книгу, чьё содержание исчерпывается демонстративной старомодностью (ныне так не живут и, тем более, не пишут) жгуче актуальной; опережающей всё то, что у нас на слуху.
Крылышкуя письмом тончайших жил, Кононов отпевает не совок бесграничный, но всю эту, вдруг ставшую резко пограничной, привычную антропологию.
Начинку человеческого.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

