Любимый мой (3)
Юрий Евстифеев (02/11/2020)
Повесть
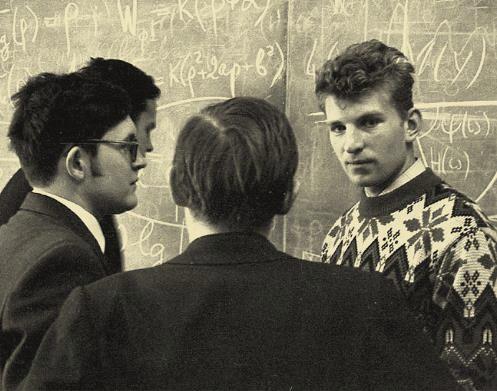
Глава 3
Вина
От автора
Это рассказ – об Иване Осташове во второй половине 70-х годов 20-го века. В квартиру Лысковой приезжает Восковцев, выпускник того же интерната при МГУ, где учился Осташов. Тамара и Иван так и не поженились. Восковцев в интернате был в компании Аренина, Осивца и Гаврилюк. К Лысковой поочередно приходят интернатские знакомые Восковцева. Не найдя понимания ни у Осташова, ни у Тамары, Восковцев уезжает с Гаврилюк.
Алексей Восковцев, доктор физико-математических наук:
25 лет я шел окольными путями к монографии. После втуза и работы по распределению пришлось закончить педвуз заочно да еще и в обычной школе помаяться, одновременно помогать кафедре дряхлого Артамонова слепить ему докторскую: лишь так я оказался в его аспирантуре. Кандидатом наук – годами перед защитой я двигал в математику членов ученого совета, – меня все-таки назначили. Держался на кафедре Артамонова всем, что могло хватать, кусать, сжимать. Родился у нас с Риммой сын в общежитии – годы я кланялся ректору, «делая» себе квартиру. Не стало СССР, обнищала наука – докторантуру навязали. Без денег маялся в Москве три года. Монография вдруг была принята на «ура». И руководством и ученым советом при защите докторской. Та самая монография, что виделась почти готовой еще во втузе. Мне, студенту. Тогда, в 70-е я искал – лихорадочно, панически – лучшую участь.
I
Отговорки однокашников – мол, сегодня пообщаться не получится, – вытолкнули меня за дверь главного здания МГУ.
Немыслимым казалось ждать неведомо где запропастившегося Осивца.Решив вернуться завтра, я отправился просить ночлег вне МГУ.
Аренин, сновавший последнее время по Москве, еще не сменил место работы. Может, не сошлется на свою гнавшую интернатских маму и отвезет, наконец, к себе в Подмосковье?
– Порешаем, – послышалось мне. На бегу, как всегда, – только бы успеть за Арениным, – я не мог даже ни о чем спросить. Вот он оторвался, нырнув в подвальчик. Вот, после давки в автобусе, взмыл вверх по ступеням крыльца. Причем перед стартом (Аренин сдал дежурство в котельной математического института сменщице) не сделал даже минутной паузы для объяснения, что будет дальше. Тоже – как всегда.
Я ждал Аренина. Крыльцо, тротуар, дорога над обрывом – дна не видно, Сетунь не слышно. А за ивняком на другом берегу оврага горы уже набрали высоту.
Вышла на крыльцо москвичка в халатике.
– Вадик сказал, вам нужен ночлег.
Я кивнул. Открыв дверь, она помедлила – я вошел.
В подъезде держалась строгая выжидательность.
Дверь квартиры. Замок сзади не щелкнул. Я прошел к апельсиновому свету – кухня.
– Алик! – крикнул сидящий Аренин. – Гаврилюк не общалась с тобой?
– Нет, – я недоумевал. – А что?
– Будешь здесь. Интернат рядом. Помнишь, у Инночки Гаврилюк магнитофончик взорвался; ты еще складчину организовал. – Аренин потерял голову: галлюцинация интерната бывала у него, где попало, в последнее время – с довеском Гаврилюк, о которой мне не хотелось вспоминать.
– Ты едешь? – спросила его Тамара, москвичка.
И встала у окна к нам спиной.
– Инночка слезы лила, – Аренин, как всегда, слушал себя-баловника, – узнав твой голос на магнитофонной кассете. Это когда ты прислал мне из глубины сибирских руд прокламацию на ленте: Гаврилюк должны в МГУ в складчину сделать ни в чем не нуждающейся (а чем еще заняться людям после интерната?).
– Пешки из МГУ шевельнулись? – Тамара обернулась.
– Инна обожает, Алик, твои теоремы. – Аренин был в ударе (значит, завелся?) – Они, пусть ты в избенке там, как сверчок, не дают заглохнуть ниве жизни.
– Я надеялся – в интернате не пропадет равенство. – Я готов был провалиться сквозь землю: в таких дозах Аренина я не выносил. – Ты зарываешься.
– Равенство у нас, равенство. Но не тождество же. – Аренин все свел к шутке.
Я посветлел: за такие парадоксы я все прощал однокашнику.
Тамара села рядом со мной – мы помолчали.
Я посветлел: за такие парадоксы я все прощал однокашнику.
Тамара села рядом со мной – мы помолчали.
– Мамочка комиссарствует над ужином, Вадька. – Тамара смотрела на Аренина. – Кожаночкой кашку твою спеленала, бдительно электрички считает.
– Ах, маме впрямь пора сны видеть – баиньки-баю, – быстро собрался Аренин. – Алик, Инну встретишь, не забудь меня.
– Чем занят в Переславле? – Тамара спросила от двери (щелчка замка я опять не услышал).
– Алгебраической топологией, – ответил я.
– А как это возможно? – Она подошла окну. – Там нет математической школы.
– Так все говорят, – сказал я. – Я уже носил работы на мехмат МГУ.
– Пешки не поняли, – согласно кивнула она.
– Аренина не признали тоже, – сказал я. – Он от ученика слесарей и подмастерья в фотоателье дошел уже до котельной – а ведь это талантливый интернатовец.
– Мы встретились с Арениным на крыльце. – Тамара опять села рядом. – Нашего математического института. Я как раз ждала там другого интернатовца – Осташова. А тут кочегар, не представляясь, стал объяснять мне, как алгеброй матанализ поверить – помните, у Пушкина: кто-то алгеброй гармонию поверил.
– А вы чем заняты в Москве? – полюбопытствовал я.
– Складчиной из уравнений, – Тамара смеялась. – Кочегар огорошил подошедшего Осташова: «Ваши с Терентьевым произведения сделали в США фурор – привет вам от математиков оттуда». Осташов отрезал: «С каким еще Терентьевым?» Извинился передо мной за опоздание, и тут Аренин-кочегар тоже извинился: «Ах, да! Вы не хотели бы проложить институтские разговоры не на этой завалинке?» Осташов: «Мне хватило фурора в США». Увы, стоило мне пригласить кочегара домой, тот тут же обменял алгебру на Инночку: надеюсь, ваш интернат – заметили, он в двух шагах отсюда? – не состоит из недотеп. Я рада вам.
– Направление в топологии я выбрал, извините, совсем не магистральное, – заметил я.
– Вам повезло, – сказала Тамара. – Это поймете у меня в комнате. Пройдите. Я вам вот у окна постелю на раскладушечке. Мама алгебраическую топологию не могла пропустить.
– Мне рано утром нужно застать на мехмате Осивца, – вспомнил я в коридоре у двери. – Друга.
– Не имею представления о нем, – Тамара продолжала греметь раскладушкой в кухне.
– Вы еще будете спать, – добавил я.
– Книгу вернете маме в другой раз, – вид у Тамары был хмурый.
Она затворилась в комнате, как только я оттуда вышел. Я нес общеизвестную не нужную мне монографию. Взял из вежливости. Богатая, как в хорошем вузе, библиотека по математике.
Я лежал и думал: я не в интернате ли опять? За стеной – яркая нестандартная личность. Впереди, может быть еще немало таких. Если бы – не уезжать…
II
Наукой я занялся еще в интернате. Это школа при МГУ, в которую я сдавал экзамены после восьмилетки. Из ста с лишним претендентов из Переславльской области попал я один.
От приведших меня в интернате детский восторг понятий «непрерывность», «окрестность» я пробился к монографиям. Ознакомясь с топологией, погрузился опять в матанализ. Монографии толстые. Осенила идея: угадывать, не заглядывая в книгу, какая теорема сформулирована на странице дальше. Угадывать. А потом – доказывать теорему самому.
Однажды, не угадав, я сделал свое первое открытие. И сформулировал и решил новую задачку. Аккуратно все записал.
Рукопись ту читали преподаватели: нас учили не только аспиранты, но и корифеи с кафедр МГУ. Меня похвалили, назвав работу самостоятельной. Но смутило, что при этом целый раздел матанализа все они ни во что не ставили. А работа относилась только к нему.
Мое равновесие восстановилось, когда один из корифеев припомнил: этим разделом занимается школа Артамонова в городе Переславль. Это же в моей родной области! Мне повезло: в том же разделе я сделал еще две самостоятельные работы. В следующем, выпускном классе (в интернат нас брали на два года).
Существовал тогда порядок: наука делается целыми школами. Серьезные математики его придерживались. Школы, внушал тот корифей, во всем СССР одинаково нужные. Я решил, что стану математиком в Переславле.
Правда, школа Артамонова ютилась в педвузе. Он не устраивал родителей: мол, учительская работа нервная, с безденежьем, квартиру не получить, распределение только в деревню. И в интернате педвуз вызывал лишь хохот.
Все сошлось на втузе, на специальности престижнейшей. Ведь на научные семинары можно будет ездить троллейбусом – педвуз в пяти остановках от втузовского общежития. И я решил во втуз поступить.
Интернат стоял на принципе – никакого репетиторства, ребят с периферии, мол, приобщили только к науке. Каждый самостоятельно готовился к вступительным экзаменам. Конкурс – а побывав во втузе в зимние каникулы, я знал, что цифры по моей специальности астрономические, – я выдержал с блеском.
Сообщив об этом в Москву классному руководителю, я услышал в ответ, что наш выпуск оказался обычным: две трети ребят поступили в престижные вузы – МГУ, МФТИ и МИФИ. Это было сказано тоном упрека мне.
Сообщив об этом в Москву классному руководителю, я услышал в ответ, что наш выпуск оказался обычным: две трети ребят поступили в престижные вузы – МГУ, МФТИ и МИФИ. Это было сказано тоном упрека мне.
Именно так я распрощался с интернатом четыре года назад.
Институты начинали работать после «картошки». Я пришел к Артамонову с интернатскими рукописями. Разговор был строгим.
– Нам нужен первый доктор наук. Прямо скажу: надежд на состав кафедры нет. Аспирантов будем брать больше. Кругом деревня. Все мероприятия кафедры санкционируются ректоратом. Прошу справку из втуза – согласуете форму ее с аспирантами. Секретарша скажет им. Кружок для начинающих веду – контингент слабый – тоже, к сожалению, я. Нагрузка нечеловеческая. Но это не Москва: надо так надо. Что у вас ко мне еще? – пот лил у него по вискам.
– Сведения исчерпывающие, – сказал я.
– А рукопись? – озабоченно смотрел он на меня. – Я отдам всей кафедре на просмотр.
Больше мы с Артамоновым ничего не обсуждали. Он ведь обстоятельно выспросил у меня подноготную: родители, школы в райцентре и Москве. Об интернате сказал в шутку: «В Москве выпускников зовут талантливыми лодырями».
Вернув мне рукопись, секретарь передала: на заседании кафедры решили – тебе надо поступать в педвуз, согласен? Я принял это к сведению. Вручил справку из втуза: «Ректор не возражает против участия студента Восковцева в мероприятиях студентов педвуза в связи с отсутствием во втузе аспирантуры по математике».
Секретарь ее отдала Артамонову, оказывается, полгода спустя. На кружках – и для начинающих, и для старшекурсников – с меня эту справку требовали все настойчивее. Но на семинар преподавателей и аспирантов – после писем моих к Артамонову и надоевших, видимо, уже всем просьб – пустили в третьем семестре и без справки.
Я добивался обсуждения, потому что никто не утруждал себя оценками моих рукописей. Новые и новые работы секретарь кафедры возвращала мне с вопросом: когда ждать твоего перевода в педвуз? Идти против здравого смысла я и не собирался!
В Переславле я держался за интернатское. Делал во втузе, что велели, учился без проблем. Престижная специальность была, скорее, научной, чем технической. И физика, и математика – основные там предметы – воспринимались мною как легкие. Как и в интернате. Переславль добавлял только необременительную рутину к уже пройденной нами в Москве программе.
Математика в педвузе казалась вообще сплошной прогулкой. Даже старшекурсники на кружке – они, кстати, заранее выстраивались в многолетнюю очередь в аспирантуру Артамонова – не знали того, что мы изучали еще в интернате. А тратить время на талмуды макаренок, на подготовку к прозябанию в деревне – мне зачем? Я сидел в общежитии втуза, в читальном зале один до ночи.
Но после семинара я словно попал на край пропасти, дальше – ничего.
– Обсуждать в докладе Восковцева состав кафедры ничего не способен, – закончил Артамонов мое участие в этом долгожданном заседании. – Доктор наук не мне, а вам нужен. Чтоб защититься, треплемся по другим городам, по издательскому делу кланяемся тоже чужакам.
Меня попросили за дверь.
Но меня поразило другое. Дождавшись Артамонова, я спросил:
– Если я опубликую работы в Москве, то возьмете из втуза в аспирантуру?
– Только по очереди после педвуза, – и тот поспешил к троллейбусной остановке.
III
Это и поразило.
Дождавшись конца недели тогда, в субботу я поехал в Москву. Радовали ряды людей на эскалаторах, молочного цвета плафоны и даже запах жженой резины. Я погружался в знакомый обиход, узнавал прежнее волнение при веренице приближавших меня к ребятам станций метро.
Университет. Оторвав от интернатских одноклассников, Осивец поводил меня по окрестностям студгородка МГУ вплоть до «Мосфильма». Я говорил о себе. Он ответил: Аренин – это была настоящая новость – после интерната занялся алгебраическими методами для матанализа. Решал уравнения с помощью матриц вроде бы. Этого не было в программе мехмата, но в общежитии, добавил Осивец, как и в интернате, Аренина возвели в гении. На семинаре в каком-то НИИ тот делал доклад. «Чья у вас школа?» – спросили Аренина (а тот был учеником слесаря).
– Вадим готовится поступать на мехмат? – подумал я вслух.
И осекся: у Аренина пунктик, что творчеству вуз не нужен.
Осивец за рукав притормозил меня. Он, как в интернате, смешно вертел головой: как бы искал во тьме у подножия зданий что-то. Я радовался: он не обратил внимания на бестактность об Аренине. А рядом – магазин «Балатон» и холмы, лампочки и сугробы, корпуса студгородка и щетина кустарников у фасадов. Словно кто-то зажег в Москве электричество дополнительное, все становилось ярче, а действовало мягче, уютнее. И возникло чувство: я – дома, то есть в интернате с несокрушимыми стенами, которые во тьме невидимы – куда мне еще?
Осивец бросил: «Вы с Вадечкой ходите тут? Рад. Дело есть дело. Будь». Нырнул в дверь корпуса философов.
Я полтора года в Москве не был. Одноклассники на ночлег в корпусе мехмата звали наперебой. Я заикался о докладе в Переславле, всем было не до того. Отвечали общими фразами, подбадривая наперебой: ты, мол, первый парень на деревне, где проще выйти в люди. Шутили: интернат в Переславле не дает математике пересохнуть.
Но главное, здесь не считали, что я, уехав, все себе испортил.
В Переславле я опять брался за тот же раздел матанализа, чтобы развивать новые идеи. Спокойно думал: что мне еще нужно после поездок?
Но вскоре – вечером в общежитии читальный зал пустовал – мне не хотелось работать одному. Подбадривания московские выглядели насмешками в Переславле.
Я бросал работать. Делалось еще горше: словно, бросив науку здесь, я нечаянно повреждал тот, у «Балатона», дом у ребят. Било по чувствам так, будто валились куски стен, повисала вонь и пыль там, в окрестностях «Балатона». И будто я – рядом, там.
Чувство вины появлялось вместе с отвращением к себе. Необходимо, вдруг жгло меня, идти к педвузу, стоять на остановке. Чтоб вернуть отношения с Артамоновым к норме.
Глупость не делалась легче от понимания, что я – глуп.
Лечило меня безделье. Полное. Лень по воскресеньям убрать постель, приготовить завтрак. Только книги по топологии – той, интернатской, еще в руках держались.
Да и в городе, и в аудиториях втуза я развеивался. Молодость помогала накапливать силы. Почувствовав их, я ездил в студгородок МГУ (с перерывом на летние каникулы). И опять в Переславле брался работать.
– В интернате ярким нестандартным детям говорили о единой науке, – на третьем курсе учась, я в коридоре мехмата напомнил скучневшему, с опущенными глазами, Осивцу. – Да так, что казалось – она поджидала нас за проходной. Наука без географической дискриминации и социальных перегородок. Как дом. Во всем СССР.
– Из письма мне Гаврилюк я понял, что твое честолюбие и уважение к своему таланту занимают столько места, сколько могут, а то и больше, – быстро заговорил Осивец. – Ты в наши дела в педагогической провинции самоотверженно не вмешивался. А я вернулся. Да, я пропустил год. Да, я отстал от всех. Не всем же представителям коренной русской национальности лезть по трупам в свои щи. Я, наоборот, буду на мехмате объединяющим началом.
И он бросился в дверь, щелкнул замок. Утром, поравнявшись со мной у столовой студгородка (а ночь я промаялся у одноклассников: «Зачем он со мной так?») Осивец попросил:
– Нам надо видеться чаще, Алик.
Я кивнул. Я понял свою бестактность: не стоило – об СССР. Осивцу надо просто быть мехматовцем. Он здесь – дома. Ему досталось. Он прав, самоотверженности мне не хватало. Хотя я – вмешивался.
Это было сразу после моего отъезда из интерната. В письме мне в Переславль Гаврилюк много рассказывала о нем. О том, как Осивцу – не пожелавшему зачисляться сразу после интерната на мехмат из-за того, что туда не брали, якобы соблюдая национальные пропорции, знакомых евреев-гениев, и сославшему себя в педвуз на Урале, – не дали общежитие. Адрес он менял, скитался по трущобам.
Я тогда же отправил ей на кассете для пересылки ему в глухомань сочувственные слова. Куда они попали, неизвестно: Гаврилюк уже в интернате могла не решить задачу в два действия.
Жаль, что мы об этом не говорили, когда Осивец, потеряв год, вернулся.
У одноклассников – другие заботы. На третьем курсе они, как невольники на рынке, ждали, какая научная школа соизволит их купить. Или, как шары в биллиарде, – в какую лузу их бросят.
Потом зимой упорхнули, в студгородке оставив мне лишь Осивца. Их переселили в комнаты за дубовыми дверьми в главном здании МГУ. И мало кто звал ночевать меня. Говорить о моих летних находках в алгебраической топологии – в коридорах хотя бы – отказывались. Одни не разгибали спины над книгами, другие – над картами, дуясь в преферанс сутками. Койку отыскивал мне Осивец. В студгородке.
IV
Это он делал год. Потом – и он упорхнул.
Теперь, Тамару не тревожа, я запер утром дверь. Защелка замка была бесшумной. Книгу взял с собой.
В главное здание МГУ я, как всегда, вошел, издали показав вахтеру свой студенческий. Последние свои задачи я отдал Осивцу. Для отзыва.
Лифт, как в капсуле, доставил меня под небо. Еще в двери заметив опускающийся взгляд скучневшего Осивца, я молчал, пока он не умылся в санузле: тот есть в каждой секции, разделенной на две комнаты-одиночки.
Моя рукопись лежала на столе. Окна напоминали мне перевернутый бинокль: с высоты смотришь – люди у земли микроскопические.
– Это – некой Тамары, – пояснил я, обернувшись на шелест страниц: он листал книгу. – Не тронула тебя моя рукопись?
– Тамарочка сказала про некого Велесова: он из людей делает витрины, – любуясь принесенной мною монографией по алгебраической топологии, проронил Осивец. – Красиво. Инночка, кстати, всем кланяется. У тебя есть ее координаты?
– Зачем? – я, отвернувшись от стола к шкафу с книгами, недоумевал. – Тамара – хороший математик?
– Некий Осташов состоит при Тамарочке, – сообщил Осивец. – Этот пылкий муж мямлил про нужду мелиорации в математике, знаешь где? На вечере интернатских выпускников – зря вы с Инночкой манкируете этим каждый год. Кто бы там ни собирался, от понимания одновременно многими людьми совсем не обыденных вещей, – связанных со временем, с судьбой и с тем местом, которое их жизнь занимает в неком общем движении, – возникает напряжение неизвестной силы.
Я, взволнованный, отвернулся от набитого словарями и библиотечными книгами шкафа. К разбросанным по постели, стульям и столу самоучителям итальянского, немецкого, испанского – а на английском языке Осивец писал тушью афоризмы, листки с которыми висели над кроватью. Я смог, без авторизованного перевода, понять только один: «Кому надо – не заходите, кому не надо – заходите».
– Это ты про Переславль? – пошутил я.
– Эти дацзыбао уже пора менять, – смеялся Осивец, проследив за моим взглядом. – Интернат существует в душе. Если не находится продолжения интерната, то сам же и виноват.
Но ведь он озвучивал то, что я, за стенкой от Тамары, думал! Он, другой, был бы и неестественен. Я не ошибся, придя сюда.
Черту – словно бы читать мысли – я подметил в интернате. Сверхъестественную черту. Он увлекся выдумыванием задач. Как раз из моего раздела!
Независимо друг от друга (Аренин тоже был замечен в таком прегрешении) мы образовали группу постановщиков задач. Когда к нам, уже оживленно беседовавшим, притянулась Гаврилюк, я это стерпел. Я не считал ее математиком. У нее были сбои по фазе, обычные: двух-трех интернатовцев клали в психушку ежегодно.
Большего счастья – без каких-либо усилий найти таких же, как ты, – я не мог себе представить. Бог с ней, с Гаврилюк, если у меня есть Аренин и Осивец.
Интернатская сверхъестественность сработала и еще раз: Осивцу выпал в качестве научного руководителя Парамонов, специалист по алгебраической топологии – а той я был уже обворожен. Тогда, скорректировав по перечню заданий Осивцу, – а перечень со вздохом проклинал вслух этот неуч – свое чтение, я в Переславле проштудировал до конца мехматовский курс.
– Знаешь, Алик, я прочел все, что нужно в МГУ для диплома, – изумил в ответ меня тогда Осивец. Он занимался в Москве тем же!..
Мои просьбы оценить то, что я нашел в Переславле в науке, он раньше встречал шуткой: неуч, мол, не может вникнуть. И начинал разглагольствовать:
– У моего научного руководителя Парамонова есть школа. Ее основатель – шеф моего шефа Попов работает в стольких областях сразу, что очумеешь, разбираясь в названиях. Знаешь, иногда образованный математик из безделицы-леммочки обнаруживает ход в смежную область, и получает нечто приятное, и работа подхватывается всей планетой. Без Попова Москва осиротела бы.
Но к этой осени я доказал нечто беспрецедентное. Сделанные работы по алгебраической топологии казались мне серьезными. А точнее – многообещающими. Дух захватывало так, что я их еще не решался никому показывать.
Они не соответствовали никаким канонам: внешне выглядели как лоскутки, а содержали – я знал это – побольше, чем кандидатские диссертации. Но мне и не хотелось приводить их в соответствие! Это можно было показать только Осивцу. Я попросил одноклассников передать ему мою работу.
Мы молчали. Я смотрел на стол.
Весь сентябрь я звонил ему. Добивался его согласия посмотреть рукопись. Позавчера я по телефону сам назначил Осивцу время встречи со мной.
Рукопись на столе лежала под книгой Тамары. Непрочитанная?
– Перья свои разноцветные мы в Переславле показывать станем, – заметил, глядя под стол, Осивец.– А здесь что ты делать можешь? Работки совать… Аспиранты Попова несоизмеримо лучше, ярче. И даже если в твоем труде найдется оттенок мысли, все равно труд останется серым, как дипломная работа «О новом способе доказательства…»
– Мы – не дети уже! Как фамилии тех великих аспирантов? – спросил я.
– Их берут для решения задачи, – продолжал Осивец. – Аспиранты – те, кто либо сильно работает над ней, и им некогда перьями пушиться, либо, извини, суки, то есть деревенские комсомольцы-общественники – как Осташов, ради прописки по трупам лезущие…
– Я – не сука, не пропаду и без Попова. – Перебил я. – Прописка не мне – вам нужна, как кость собакам. Магистраль его, Попова, математики (раз уж помечаете, как собаки, районные и областные города струей хамства, то и Москве несдобровать) – ведет только на Запад. Обуться-одеться вам там надо? Стары ваши школы: что хозяин скажет, то вы сделаете.
– У нас с Вадькой перед тобой совесть чиста, – быстро заговорил Осивец. – Извини, Алик. Кажется, что ты очень хотел преуспеть в Отечестве, но выбрал не тот способ или по другим причинам не выдержал конкуренции, и теперь говоришь, что игра была не по правилам.
Он постелил рукопись в коридоре. Кирпичиком монографии придавил листы. Обойдя меня, захлопнул дубовую дверь – щелкнул замок.
Спускаясь с поднебесья по затхлому пожарному выходу, я мстительно говорил: «Вам нужно успевать – езжайте на своем лифте». Этажа до восьмого. Потом сел… Черт с ним! Поднявшись с каменной ступеньки, я схватил рукопись, на которой сидел.
Вышел, показав издали студенческий вахтеру. И обрадовался. Хорошо, что не вернулся бить морду Осивцу.
Одиночество напало в преддверии автовокзала.
– Звонит студент втуза, гость, – сказал я в трубку телефона-автомата.
– Алик. – Подтвердила Тамара.
– Мехмат навсегда недоступен, – сокрушенно признался я.
– Ночевать будем опять у меня дома, – согласилась Тамара.
Я обрадовался: Москва меня держит!
(Продолжение следует)
Последние публикации:
Любимый мой (6) –
(10/11/2020)
Любимый мой (5) –
(06/11/2020)
Любимый мой (4) –
(04/11/2020)
Любимый мой (2) –
(29/10/2020)
Любимый мой –
(28/10/2020)
Люся –
(22/09/2020)
Советский Тарковский –
(04/08/2020)
Молчание –
(28/07/2020)
Издатель –
(23/07/2020)
Страсти-владычицы. К 150-летию Ивана Алексеевича Бунина –
(16/03/2020)
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

