Любимый мой (6)
Повесть
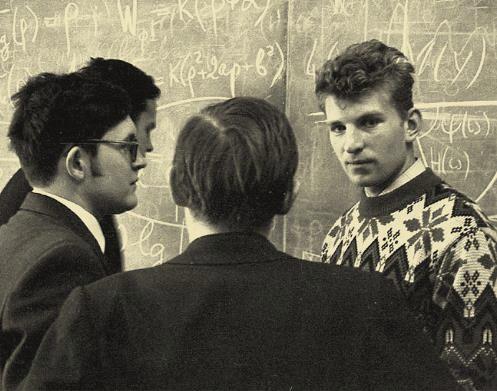
Глава 4
«Приходящий муж»
От автора. Рассказ о жизни Тамары и Осташова после отъезда Восковцева. Рассказ ведется в 21-м веке.
Тамара Лыскова, доктор физико-математических наук:
I
Ванина предсмертная история такова. Замолчавшие вагоны, опустевшие дворы. Он такой увидел Москву осенью. Везде он словно изолирован. Не мог вникнуть, о чем говорили ему – в магазинах, в кассах метро, в вагонной толпе. Напряжение звенело в ушах, распирало изнутри. Изолировало. Почему люди все как вдалеке, спрашивал себя, почему?
За ночь силы не восстанавливались даже при сильнодействующих снотворных. И ко мне приехал – сказать, что уходит на время, – через опустевшие улицы в тихом автобусе. Депрессия со дня увольнения росла.
– И никого вокруг нет, – озирался оторопело. – И Терентьев так и не признал меня. Как в хлам, клал мои работы в стопку своих рукописей – когда он был в МГУ. Без отзывов. Те работы мои, что опубликовал я в США. «Ноль ты», – сказал мне, когда был в оборонке. Ни слова обо мне не проронил – когда умирал.
– С кем бы тебе еще заняться математикой? – подумала я вслух. – Потрясение и уйдет.
– Я вне себя, – потупив взгляд, бубнил свое. – Опубликовал по всей планете шесть фундаментальных работ. Писал их, уверенный, что Терентьев закончил свою теорию. А он – проходимец. Не подумал заканчивать! От него, кроме отрывков и пустяков, не осталось в науке ничего. А я? Последователь. Без оригинала копия. Без начала продолжение... А ты – где была?
– И все же! – попыталась я вернуть его к математике.
– С тобой, главное, ничего не делать, – нес Ванька околесицу. – К выполненному мной твоему приказу ты подходила как к тепловозу. Прицепляла другие указания, словно вагоны. Если я тащил ношу, то – еще. Потом – я не в силах тащить. А ты, по инерции, еще и еще. Прицепляла, не заметив, что тепловоз давно неподвижен. Иногда думал: ты не замечаешь это никогда! Полная у нас изоляция.
Меняя тему, я завела речь о новой работе – ее поищу, обещала.
Он за банальность ухватился.
За то, что солнце без приказа каждый день встает. Люди просыпаются. Транспорт ходит.
– Какой смысл выкрикивать, что солнце встает? – недоумевала я. И опять он срывался на крик, что для него важнее: люди просыпаются, живут, торгуют, ездят...
Из этих странностей и состоит предсмертная история Вани в Москве. Я не могу в ней ничего объяснить. Я понимаю одно: он вырвался из постижимых мной пределов. В конце 98-го года.
II
Конец 70-х. Ваня прибирался в моей квартире после отъезда студента с Гаврилюк (больше мы их никогда не видели). В первый раз я осталась у Вани в Дашине одна. Ваня пришел и сразу:
– Предлагаю – в шестой раз – руку и сердце. После такой уборки выйти замуж за меня не грех.
– Не делай глупости, – вырвалась я из его рук. – Мне страшно. Будто квартира разрушена. Это очень плохо. Пока назад не смотри, занимайся моим состоянием.
– Работа у меня началась, математизирую ЭВМ, – обидчиво надул губы Осташов. – Для нас нет ничего важнее. Поверь.
– Мне страшно. – Я подошла к двери.
Я поняла, чего пять лет хотела, – использовать его происхождение. Отец-нянька. При моем ребенке. Город так употреблял деревенских: и приберутся, и незаметными могут быть, и согревать квартиру жалостливостью. Осташов же был, для мехматовского круга, из деревни.
– Ты куда глядишься, Тома? – он прикоснулся к моей, теребившей прическу, руке. – Как перед зеркалом!
– Боже мой! – вырвалось: дверь я приняла за окно. – Ждать буду изменений здесь.
Осташов уложил меня. «Скорая», сон на три дня. Казалось во сне, что родители вдвоем дома. Ходивший за мной, как санитар, Осташов. Потом я окрепла.
Утром прибиралась. Квартира-музей не устаревшей даже, а высмеянной всей Москвой престижности. Мебель-ширпотреб. Как у соседей, Ваня объяснил. Топорной советской работы ширпотреб, становившийся в СССР дефицитом раз и навсегда. И соседи, его имея, значились в выбившихся в люди. Выбившихся – тоже раз и навсегда.
Из лимиты да в шуты! Поистине Дашино – медвежий угол. Оторванность и запущенность. Я надевала одноцветные рукавички, дубленку, шапочку, все из Европы. Не боялась быть шокирующе-красивой. Белой вороной ходила по телефонным будкам, говоря: «Пока я не в себе, не увидимся» – родителям и друзьям. И они не утомляли.
До последнего дня.
– Осташов принял Велесова за пустое место, – тут папа начал было свои увещевания – пятилетней уже выдержки. – Видно – слепой парень.
– Папа! – возмутила меня его назойливость. – Велесов, он мне зачем?
– Кто-то из МГУ насмерть стоял на том, что Осташов – ноль без палочки, – быстро затараторил голос на другом конце провода. – Но принял твоего Ваньку под научное крыло свое как миленький. А Велесов Осташову еще и место в калашном ряду сделал. Воротил Ванька свиное рыло – ходу не будет.
– Теперь шум из-за чего? – спросила послушная дочь, то есть я.
– Сермяге не ты нужна...
– Ты маму не удерживал, – поняв все, перебила я. – Олег – меня. Какой из Олега отец ребенку?! Пусть ищет дурочку.
Я развлекла напоследок отца историей из МГУ. Умолчав о расхожем мнении – в МГУ Велесова звали деревенской сермягой, а это было бы ударом для отца, черпавшего истины от родителей Олега, знавшихся с Велесовым исстари, в общем, целая Кащеева цепь, – я вспоминала только, что у этого типа от меня кружилась голова. Но не говорить же Велесову, что я была не против забеременеть от Терентьева – того самого, что взял казавшегося мне подростком Ваньку под научное крыло. Забеременеть для Терентьева, неприкаянного!
Опостылевали мы с Ванькой Терентьеву все сильнее. Два фаната, в рот глядящих. Вспоминать смешно.
– Маетесь, – вскользь замечал Велесов. – Гордость и честь потеряла Тамара-царица от демонических терний.
В конце концов, мужское дело – забота о продолжении своего рода. Велесов тогда меня отрезвил.
– А сейчас – меня! – отец, как всегда, напоследок не удержался от ребуса.
– Ужин готов, – до последнего, перед уходом моим, дня говорил Осташов спокойно. Мы ели. А потом я шла дышать воздухом: в темноте, как говорится, все микрорайоны серы, Дашино не отличишь от Кунцева. Ваня садился за письменный стол. В мелиорации он изготавливал, как все, туфту для КПСС. А в промежутках – продолжал теорию Терентьева. Делал прикладные разделы. И дома одержим был ею.
Тут перед прогулкой я рассказала папину историю. Мама вышла за него замуж как за лидера их компании. И легко выворачивала наизнанку каждую удачу папы как дельца: горб гнешь на проходимцев. Папе не хотелось оставаться самым близким ей неудачником.
Он ушел в ее отсутствие. Из детсада меня – последний миг близости – привел.
– Деньгами не играй, – сказал шестилетней девочке, мне.
Мама вечером спросила:
– Где у нас деньги?
И, найдя их на моей кроватке, – папина демонстрация принципов, – на ночь ушла сидеть к больному товарищу. Утром переоформила в детсаду мое содержание на круглосуточное. Почти никогда я не ощущала, что та, утраченная, близость отдана назад.
– Что значит «почти»? – Осташов продрал, ревнивец, глаза.
Я напомнила ему о ночи в Татаровске – как раздался звук колокола с реки, когда Ваня у кровати сторожил меня. Как этот колокол сопровождал меня до постели в Москве. Повторив движения руками вверх и гугуканье, передала ему свои ощущения в момент, казалось мне, зачатия. Те ощущения, что любила в себе последние пять лет. Вот и все мое «почти».
– В постели (а у нас все с тобой тогда было!) ты раскрепощена так всегда, – забормотал Ваня, разводя руками, как Марфушечка из Татаровска. – Но на церквях колоколов нет. Звук шел от машин – река, как городской проспект, шумит и днем и ночью...
– Где же ты был тогда, перед ощущением моим? – ужасом повеяло на меня. – Таблетки я пить тогда не хотела.
– У нас все с тобой было, как всегда, но я не хотел быть дворовым дядькой при барыне. – Осташов, зашагав по кухне, сделал карикатурными рожу и голос. – Цепляла к приказу приказ перед тем, как раздеться: «Мне трюфели разверни – как будто с ребенком отец. Почему ты не купила их? Сложи мне рассказик, какой ты на ночь крохе сложишь. Если девочка будет, надо учить играть ее в классы. Умеешь – покажи! – скакать на одной ножке?..» Будто ты дочка.
Я, закрыв ладонью глаза, не сдержала стон – этот тип копировал сумасшедшую Гаврилюк! Очнувшись, потребовала вызвать мне такси...
Экскурсия по кабинетам эскулапов завершилась фразой папы: «Дочь, нам теперь не о жалобах надо думать бы». Фраза относилась к снабжавшим меня контрабандными противозачаточными таблетками математикам из нашего окружения.
Я стала бездетной. Но мы с Ваней это пережили. Раньше была шутка: «монах и расстрига одновременно» – первую часть ее он привез от матери, вторую кличку тут же присоединила я, а последнее слово, доведя фразу до абсурда, добавил сам Ваня. И позже он предложил заменить абсурд – мол, его светлость, хоть и не зарегистрированный, но муж. И сам подытожил: приходящий.
III
В начале 90-х Осташов, принеся гранки, попросил поздравить его с окончанием работы. Университетский журнал печатал шестую, за 18 лет, статью Вани. Тот был доволен. Каждая последующая его статья развивала предыдущую. В журнале это называли его собственной темой.
– Как жаль, что ты уйдешь из математики, – сказала я.
В ответ – оживленный комментарий. У тебя реальность, сказал, нарезается полосками. И память держит их порознь. Так в детсаду в праздник развешивают бумажные флажки по веревочке.
Но я сделала все, как нужно: ужин, сухое вино, его любимый пирог. Я терпела. Я понимала его характер. Быть в сторонке.
Я заметила это на мехмате. Но потом поняла, что он еще раньше, в интернате, держался как бы в сторонке от всех. И там наткнулся на Терентьева. И в сторонке же, после МГУ, развивал, – об этом говорил только мне, – теорию Терентьева. Уйдя из мелиорации в 86-м, – пришлось спасаться бегством от разрухи в той конторе, где двенадцать лет кормился очковтирательством, – попал в оборонное КБ, до абсурда политизированное, и сидел там тише воды ниже травы. В штыки встречал мои советы перейти в МГУ, к нам в институт. Таков характер.
Отшельник. Общества математиков дичился. Пещерные манеры: сдаст в журнал статью, увидит напечатанной и даже от разговоров о ней уходит – в абсолютную окаменелость. И не вспоминал о публикации, пока не погружался с головой в следующую статью. И становился колюч, если задеть эту его сторонку.
Состояние математики в стране он определял тоже диковато – по информации о выпускниках интерната при МГУ. К середине 80-х его однокашники не заявили о себе нигде. Даже кандидатами наук стали только единицы. Ни одной – сравнимой хотя бы с его статьями, не то что яркой – публикации! Неудивительно, что и позже о них не слышал никто: ведь математики если и проявляют одаренность, то рано – основные открытия, гласила интернатская же молва, совершаются до 25-летнего возраста. Старея, таланты только питаются молодостью. Только, мол, напоказ живут, доводя идеи до своих чинов и титулов. Если общество советских математиков уже погубило стольких талантливых ребят, то зачем я хочу еще одной жертвы – бросаю, мол, его, Осташова в эту пучину? Терпения он потребовал максимального.
Вскоре распался СССР, Ваню – пришлось ему бежать от голода, ибо в оборонке не платили денег – взял в свою фирму его бывший начальник-мелиоратор. Заработки Осташова тут пришлись кстати. Для моей мамы.
Папа мой умер еще в СССР, едва успев переоформить на нас с мамой кооперативную квартиру. Я считала правильным – ведь страну трясло уже – оставаться в математическом институте. Одна из однокашников. Все, кто был, бросились врассыпную, благо диплом МГУ престижен, в кооперацию, в банки, к нефтяным воротилам. Олега загодя во властные сферы ввел Велесов. Все объясняли: «Надо кормить семью» – на прощание. В середине 90-х, когда захворала моя мама, Осташов распорядился: «Папин антиквариат – не продадим!» На его деньги наняли сиделку.
Я тоже подрабатывала. Репетиторством. Мама отнимала много времени. Попытки жить вместе, не удававшиеся у нас с Ваней и раньше, – они всегда повторяли брак с Олегом: так, водоросли то разделяются течением реки, то соединяются им же, – с его стороны совсем прекратились.
– Больше не заговаривают о моей невесте, – пробормотал Ваня однажды, когда я спросила, как поживает родня.
– А ты – тоже, – дополнила я картину.
Что ж, и я не жаждала жить вместе. Он, в отличие, например, от Олега, не помнил, что нужно поздравлять мою маму с именинами, а меня – не только с ними. Он упорствовал в неблаговоспитанности. Так, он выбрасывал из головы адреса и даже фамилии помогавших ему хотя бы публиковаться. Не заботился больше о напечатанных статьях: пустяки, мол, эти книги – кстати, для издания средства у него были, – кому нужно, отыщут и в журналах все, а защита диссертации, – когда многие из науки эвакуировались, – унизительна. В математике, мол, мои теоремы уже есть.
– Да, меня не замечают, – парировал он мои комментарии к уходу его из науки. – Да. Но я не в силах навязываться, как когда-то в МГУ. Да и не вправе. Продолжатель, не нужный учителю, – обуза всем другим.
Партнерство Вани и Терентьева я перестала понимать. Репутацию Осташов – теперь это аксиома – подорвал еще в интернате, пересдавая, как последний тупица, спецкурс Терентьеву шесть раз. И в МГУ тот не любил Ваню, которого, впрочем, и мои однокурсники считали серой рабочей лошадкой. Терентьев – оратор от Бога. Мы с Ваней, если честно, изображали немую публику, а Терентьев говорил речи небу и Москве, той, что под Воробьевыми горами: Лужникам, Кремлю вдали, памятникам. Тем и был мне мил, кстати.
Мама умирала, оторванная от людей. Жалуясь мне, что ноги не дают возможности навестить неудачников, она не соглашалась их ни видеть, ни слышать здесь – потом, твердила, потом. А те и раньше не подавали мне знака о своем существовании. На похоронах был только Олег. Его жена, в основном, обитала в Англии при воспитывавшихся там детях. Дела у Вани были плохи.
Попытки делать в фирме деньги из воздуха: сначала на баснословных наценках на перепродаваемые компьютеры, потом на пиратских тиражах программных продуктов и даже видеозаписей – заканчивались для Осташова крахом. Поняв, что Ваня готов, как в СССР, делать только воздух – идею понимал, а от клиентов уходил в сторонку – начальник перевел его, наконец, в помощники к бывшему своему парторгу, заместителю по связям с общественностью. Мелиораторы друг за друга горой стояли до осени 98-го. Потом обрушение рубля выпустило из их фирмы и воздух. Ваню сократили первого. Он приходил незадолго до маминой смерти, предупредил: уходит на время. Но в Дашине, сиделка ездила за ним, его не оказалось...
Перед Новым годом я заказала телефонные переговоры с мамой Вани. Умер. Еще осенью.
– А кто вы ему были? – полюбопытствовала она. Голос меня не слушался. Праздники я встречала в кардиологической больнице.
IV
Выздоравливая, вспоминала о математическом институте. Годовой грант истрачен, и предстояло жить на символическое жалование. До тех пор, пока что-нибудь не придумаю.
Грант я получила после прихода Велесова к нашему директору. Тот, в свою очередь, пригласил меня. Велесов стал умолять помочь:
– Имя ученого, Тамара, – по старой дружбе так обращаюсь, не против? – восстановите лишь вы одна. Мы потеряли математика в крупном администраторе. Нехорошо! Забота о научных его трудах – наш крест. Я рекомендую вас в комиссию по творческому наследию Терентьева.
Потом Велесов самолично вручил мне папку с рукописями и публикациями. Так – десять с лишним лет спустя! – я узнала о смерти Терентьева в 1987 году.
Вспомнила: перед этим – адрес мне тогда нашел папа – Ваня был дома у кумира! Так у меня стала восстанавливаться предсмертная история Терентьева.
Предлогом для встречи у Вани были поиски работы. Он дозванивался долго. Оставив его в комнате, Терентьев доедал ужин на кухне.
Портрет жены белел над диваном – карандашные линии разбросаны по холсту. Квартира, после размена с женой, оказалась однокомнатной.
– Чем помогли Родине? – осведомился Терентьев.
– Занятиями, – сказал Ваня. – По теоретической механике. Ход туда нашел от вашей теории.
– Механика развита у нас в оборонке, – Терентьев сел на диван. – Целый иконостас академиков. Знатокам ни к чему изобретать велосипед.
– Ваша теория станет мощнее, – Ваня не стеснялся – напрашивался опять в соавторы.
– А почему вы не пошли в оборонку по распределению? – последовал вопрос.
– Потому что нас разделили, – твердый ответ.
– Делить было нечего, – Терентьев продолжал говорить о своем. – Придется поднапрячься мне. Ноль – здесь ты.
– И нули имеют эталон, – уколол Осташов. – Вам лучше бы признать свою, надеюсь, определимую величину.
– Мелиорации ты как эталонное болото был нужен, – отшутился Терентьев.
– Я там смог остаться вашим учеником, – настырного Ваню не пошатнуть. – Вам же – польза.
– От осушения красоты и поворота рек от моря к горам? – спросил Терентьев.
– Только от этого и нет, – буркнул Ваня. Терентьев ушел к телефону. Потом – именно так покорял он нас в МГУ – стал объяснять Ване.
– Вы сейчас поймете, как рождается наука. Есть время вам послушать – перезвонить о вашем трудоустройстве обещали позже...
Ваня, молодец, запомнил монолог. Вот он!
«Математики невозмутимы только с виду. Идеи требуют верности, привязанности, совсем как живые существа. Идеям не по вкусу, им мешают измены – так не сотворишь ничего.
Все, как среди кумиров. В мире идей нужны те же твердые принципы, те же постоянство, искренность, жертвенность. Чтобы себя уважать, приходится себя ограничивать. Роскошь помечтать о праздном редкодоступна.
Я никогда не тороплю события. Хожу вокруг да около – вроде бы рассеян. На самом деле, не хочется привносить в работу эмоции извне. Сосредоточиваюсь – будто в бане отпариваюсь. Погружение с головой иногда случается, иногда – нет. Но при неудаче не чувствую, что усилия пропали даром. Каждая попытка все равно приближает к цели. Рано или поздно контакт с любимым математическим фантомом установится.
Как? В какой-то миг после изнурительного хождения или сидения на месте, забав с постановкой и решением легких задачек, после нескольких дней, недель, а то и месяцев бесплодия вдруг замечаешь, что математические символы уже не стоят на месте, а двинулись перед твоими глазами и тебя куда-то зовут.
Этот зов угадываешь и по учащенно забившемуся, в предчувствии удачи, сердцу и по появлению простецкой, почти младенческой радости: решение как аршинными буквами было где-то рядом написано – и вот увидел!
Бывает радость и после доведения до конца рутинной, не обещавшей вроде бы совершенно ничего задачи. Аккуратно «расщелкал» ее, как орех, – и вдруг видишь тянущуюся за поставленной тобою точкой золотую жилу. Задача была дверцей, просто дверцей, а за ней... Понимаешь, что от этой задачи – как рельсы от большой станции, – идут четкие, надежные, неоглядно далекие пути ко множеству свежих, парадоксальных лемм и теорем. И ты на небесах от радости!
Случается и иное: результат возникает из одного только приневоливания, приковывания себя к письменному столу. В этом случае результатом оказывается вереница крошечных задач. Они невзрачны по отдельности, но вереницей, в сцеплении и соединении, неожиданно значительны. Этой вереницы, этого четкого узора ты и не видел, начиная механически решать их. А они вытянулись аж в крупную теорему. Песок крошечных мыслей стал алмазной ниткой.
На результат нападаешь редко. Но когда нападаешь... Эти картины цифр, символов, математических знаков вызывают не просто волнение, но и серьезные чувства. Ты захвачен не только интеллектуально, но и эстетически. Математика превращается в искусство».
Ваня смотрел на письменный стол.
– Мы чувствуем одинаково, – сказал.
– Какие идеи вам-то сдались, бедняге? – опять Терентьев стал сух.
– Я в МГУ у вас ничего не крал, – бубнил Ваня. – А связи с вами в других моих работах в микроскоп никто не увидит! Вы их читали?
– Я бы сделал то же самое без вас, – сказал яснее некуда Терентьев. – И лучше вас.
И вдруг стал сетовать на административную нагрузку. На оторванность от научной среды – мол, в оборонке все как в подземелье. На жену. «Тебе следовало оставаться лектором – студенты не перебивали тебя», – констатировала она и ушла. А может, и город ушел за ней? Услышав это, Ваня усидел на месте. Дождался звонка. Ване стало жаль старика.
– Вы устроены, – самодовольно заявил Терентьев.
– Отфутболил, – сказал Ваня потом мне. – Как пустую консервную банку.
Теперь мне понятно, почему Терентьев и в голове не держал работать вместе с Ваней. Его подразделение беспрерывно реорганизовывалось, переподчинялось новым и новым оборонным структурам, то делилось, то вновь объединялось. Административное рвение Терентьев соединил с исследовательским – управленческие эксперименты стали материалом для докторской диссертации. По экономике. И вскоре умер от разрыва сердца.
V
Папку с наследством Терентьева я передала Осташову.
– Болото! – удивил меня Ваня отзывом. Папку с рукописями он держал у себя до весны – мол, мне надо маму выхаживать. Отзыв Ваня предварил рассказом о Терентьеве. Много я не знала!
«Нужно быть корифеем в своем деле или пасти гусей» – этот принцип Терентьев применял к каждому: студенту, школьнику, академику. У него не было до Вани учеников. Терентьев обожал ораторствовать еще в интернатских коридорах. Ребят привлекало это его отличие от преподавателей, что называется, транзитных, пускавшихся наутек из школы после уроков. Ваня терялся в толпе слушателей.
Осташову не запомнились никакие другие принципы. Может, ни у кого больше их и не было: если математики что-то и вещали, то по мелочам.
В военно-промышленный комплекс Терентьева зазывали давно – там укоренился его бывший научный руководитель Осипов. Потом прогремели в США статьи Вани. Исчез Терентьев без объяснений. И сразу Осипов – Осташов тогда слышал много намеков – ушел на пенсию. Статус возглавлявшегося Осиповым подразделения вдруг повысили. А кресло учителя занял ученик. Так Терентьев, оттолкнувшись от осташовского «дна», всплыл на поверхность.
Квартиру в Дашине можно было посчитать гонораром только за творчество. Но в науке Осташов очутился в изоляции.
Есть публикации – после американцев его статьи, с небольшими дополнениями, напечатал университетский журнал. А имя – есть? Молодой парень не знал ответа. Ваня был и на виду, и в пустом пространстве: ни один авторитетный математик не дал ни оценки, ни совета. Осташов почувствовал себя по-деревенски – как в голом поле под открытым небом. А идеям несть числа – контуры их Ваня занес в тетрадь еще в МГУ. И принцип Терентьева начал его подгонять в творчестве.
Надо же быть корифеем в своем деле. Не пасти же, обывательски, гусей! От идеек в тетради, – как плотину прорвало, – хлынул сначала ручей, потом река, и от нее рукава в прикладных направлениях...
Так этот завзятый мелиоратор – фирма их тогда еще стояла на ногах, – обрисовал свою научную деятельность. С 1973 года. 25 лет без отзывов. Но он и надежд не терял. Ждал. Оценить, мол, должен только корифей. Сам. Терентьев. Эту печальную картину Осташов завершил так:
– По полю гнал меня не строгий судья, а презрительный палач.
– Перестань, – не слушала я больше. – Он мертв.
И он перестал. Разложил на кухонном столе рукописи Терентьева. Листки с пояснениями. Тетрадку.
– Болото! – повторил. – Теория в загубленном виде. Болото образуется из ключей, в народе знают. А тут источники бьют вообще под почвой – очищать надо их несколько лет.
На мою просьбу сменить мелиоративный язык на членораздельный Осташов настырно не отреагировал. Наоборот, осерчал:
– Среди топи и мутной воды Терентьев был смел. В сравнении с несделанным им, все другие люди – нули. А в сравнении со сделанным – не все. Палач презирает работу.
И перестал опять. О деле говорили долго. Работу в силах за несколько лет закончить даже аспиранты. Рутина невообразимая! Но основную схему предложил. Связь у терентьевских незавершенных отрывков была. Он отыскал ее за три месяца. Но наследием Терентьева, предупредил, эту связь называть уже не вполне корректно.
– Вот еще несколько ключей к тому же болоту, – вручил он мне свою студенческую тетрадь. – Контуры так и не развившихся идей. На память.
– Наконец-то меня радуешь, – заметила я. – Хотя бы в математику верну тебя. Через заочную аспирантуру в нашем институте – хочешь, устрою?
Но Осташов все сожалел и сожалел:
– Движение, – теперь к мертвецу, – идет. Инерция от возраста. В чистом теперь поле.
– Ищи тропку к нам, – посоветовала я.
Ты, опять уколол он, реальность нарезала полосками. Аспирантуру, мол, надо было ему искать 25 лет назад, в МГУ.
Позвонив, как был уговор, на мобильник Велесову, я дословно передала наш с Ваней разговор о деле. Из его горестей, – предупрежденная, что Велесов не один, – вставила только картинку про математические реки и рукава.
– Осташова помню, – Велесов спешил. – Сначала парень вроде был тихий. К Терентьеву идя, даже имени своего стеснялся. А там сиганул аж за океан в США. Ему та река по колено. С Терентьевым пока, Тома не спеши, – дела меняют русло.
VI
Память о Ване я храню дома. Его тетрадь. Публикации. В том числе, в журнале «Наш Арбат». Об этой статье узнала от подполковника Степанова – его телефон мне случайно дал Олег. К счастью – дал. После разговора со Степановым Ваня понятнее мне. И ближе, и ближе.
Степанов восхищался Ваней-оратором. Сожалел, что публикации Вани, – тот привез их в Татаровск перед смертью вместе только с одной сменой белья и сувенирами, – родня отправила в гаражный хлам.
Я работала, сказала ему, в Новой высшей школе. Он, правда, справился – в которой из новых. Но школа интересовала его меньше, чем рассказы о Ване.
– Мощь! – оценил он судьбу Осташова.
Выспросив, в свою очередь, его, я сослалась на усталость. И мне и впрямь нелегко. Но тогда, слушая Степанова, я еще и поразилась. Взволновал не Ваня-оратор, копия Терентьева. Нет. Взволновал ребенок. Кроха. На реке у мостового прогала. В сторонке от городской толпы. Кроха-Осташов – детали и эпизодики, переданные родней Степанову, я потом соединила, – мне всего дороже.
... «Ек-ка-а!» – звенел голос Вани на берегу, на мосту, где качался настил под прыгавшими, на пригорке за мостом – до сумерек он лез и лез к отцу и людям.
– Вопросов много задаешь, – раздалось от людей.
– ...твою мать-то, донял, – пьяное, отцовское.
Маму стал кроха искать. Спустился с пригорка. Во тьме река почти невидима. А трава стояла крохе по плечи, мокрая. И вдруг после шага ударил запах кала. По-домашнему гавкнула собака. Как позвала. К мосту, к электрическим лампам. И вот донесшийся до спуска на мост Ваня видит усеянную поблескивающей щебенкой пустоту дороги. Он – к воде за ней. Он не боялся тогда ничего.
Ан нет – запах сырой, страшный: заводь подернута грязью. Все смешалось с хрустом колес по щебенке, с металлической тушей-машиной, от отца совсем отделившей. Пошел по мосту – среди людей, но отшатываясь к перилам от разорвавшего барабанные перепонки гуда очередной, в потоке, машины. А там, у перил, оглянувшись, притормозив, начал смотреть на надутую – так, что по ней, как по поверхности воздушного шарика, морщинки-струйки тянутся, дрожа, – стремнину. Только начал смотреть. Тут же окрик Крестной:
– Ваня?!
...Может, Булатовы в тот вечер ездили за сеном. Или по другой заботе. Строились они в городе. Крестной, тете Даше, собака Борец покоя не давала, гавкая. Когда собака завернула к Ване, Крестная оглянулась туда...
– Ваня?!
И еще громче:
– Собака! Уберите!
Тут отшатнуло Ваню. Помнили, как во время подступившего паралича он выдавил из себя только: «К-ка». Потом люди везли его. Лошадь Булатовых черная. Гавкнул Борец на другого пса. Ваня – в плач.
– Вода! – внушал дед то ли ему, то ли себе. Он не любил запах бензина. Мост, мнилось деду, могли развести в любой миг.
Перевести дух дед смог только за мостом. Мелькнула мысль отправить Дашу с внуком к Анечке, маме Вани, но он понял: на телеге быстрее. И тут цепь грузовиков замерла. Лошадь тоже притормозила. У подножия городского холма. Ветром подуло с реки, опять заныл внук.
– Отнеси, Даш! – решил дед. – Ногами-то скорее.
Крестная взглянула на отрог крутого берега, на белевшие во тьме валуны, замешкалась.
– Мить, возьми ты! – сказал дед, хотя уже трогались машины. – Не мешкай!
– А вы как? – спросил Митя.
– А в случае чего на спуске со стороны церкви будем, – сказал дед, уже оглядываясь, освещенный фарами. И лошадь пошла вслед веренице огней от грузовиков, потянувшейся вверх.
Дядя с Крестной, перебежав трассу, затопали по ступенькам почти вертикальной деревянной лестницы, быстро перешли потом еще трассу и, руководствуясь огнями слабых электрических ламп в окнах, поднялись по холму до дома. Дядя запыхался, взмок. Ваню взяла Крестная. Открыла дверь.
– Он... А Миша?... Он синий совсем, – порывисто и инстинктивно выхватила Ваню бабушка Марфушечка, да и чуть не обомлела. Мама подхватила кроху.
– Мишу куда дели? – перепугала Булатовых Марфушечка, подступив вплотную.
– Ой, муж утонул! – истошно вскрикнула мама.
– Не знаем! – вспомнила о существовании на свете зятя и заорала, как и мама, Крестная. Побледнела, как полотно. Митя стоял, не дрогнув, только губы поджал.
Двери захлопали. Забегали соседи. Рассудительный Митя удержал Дашу:
– Найдут!
И он же обернулся к положившей Ваню на топчан сестре Ане:
– Одних не оставляй! – показал на детей властно, совсем, как дед.
– Напился, поди! – Аня вдруг подняла глаза от Вани на Митю.
– Ждут нас, – сказал тот застенчиво, отворачивая взгляд.
– Где? – вскинулась Аня.
– У церкви, – смогла, наконец, Даша вымолвить слово.
Сестрам стало легче на воздухе. Митя нес казавшегося бесчувственным Ваню. Аня вела за руку Сергея. Отблески света из окон растаяли, во тьме все приблизились к спуску. Аня потянулась к родным белевшим лицам со светившимися, казалось ей, на них улыбками. Сергей топал, ведомый ее рукой, и у лошади как-то неловко фыркнул от радости. Дед погладил его по головке.
– Одних нельзя оставлять! – произнес глуховато.
– Ой, смотри, очнулся! – вскрикнула Даша. Поднявший голову Ваня обводил глазами лица, кроны деревьев. Опустил глаза на собаку у телеги, заплакал.
Митя опять отдал его Ане, ощущая себя неловким, виновным в плаче.
– Сергей спокойный! – сказал дед в сумерках, отъезжая.
– А этот вертун, – только и успела выговорить Даша, как телега загремела по спуску.
Мама Аня вышла с детьми на край холма. С ее рук Ваня видел слабо блестевшую реку.
Как ни бились родные, от резвости у Вани не осталось и следа.
Память об остальном у родных – как отрезало. Путались. Уклонялись от бесед. Лишь повторяли, что после случая на мосту, в свои пять лет, Ваня – любимый мой – оставался всегда в сторонке.
VII
Велесов, уйдя из правительства, на старости лет совмещает контроль над бизнесом и системой платного образования для того же бизнеса. Ректором Новой высшей школы стал Олег. Мы с ним за несколько лет написали и защитили кандидатские, а затем и докторские диссертации. Удивлялись себе: можно было так же достичь научного положения еще в молодости. Работа над диссертациями была, в основном, рутинной.
Я заведую кафедрой математики. На стенде кафедры красуется наша с Олегом монография «Теория Терентьева». Издана роскошно. Стенд собран из работ представителей научной школы академика Российской академии наук Велесова.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

