Любимый мой (4)
Повесть
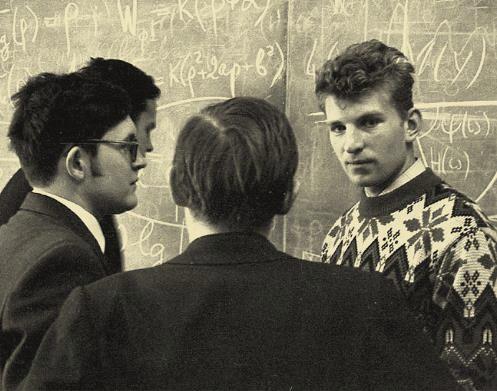
Глава 3 (продолжение)
V
Напоследок Тамара тогда, по телефону, заявила:
– Ты – не Осташов, который позволил обобрать себя кому попало. Диссертацию не пишет. Тебя хотя бы можно устроить. В нашем кругу. У нас надо появляться.
Я стал ездить, предварительно позвонив, к работающим математикам. Вечером в субботу засыпал на кухонной раскладушке. Утром помогал Тамаре по дому.
Математики являлись в гости по воскресеньям. Их досуг походил на карнавал. Одежды образцовые. Пили сухое вино. Слушали новейшие кассеты, свежайшие анекдоты, рассматривали, передавая из рук в руки, привезенные из-за границы книги. В центр внимания попадало только оригинальное.
В первый же вечер я отвлекся от своих мыслей. Уловил, – среди воспоминаний о том, как все в интернате друг друга предостерегали от того, что я сейчас делаю: мол, опасно связываться с москвичами, – уловил, что интересуются мною.
– Он интернат променял на глухомань? – спросил кто-то.
– Олег, у всех у вас игры фатальные, – сказала Тамара соседу, они сидел на противоположном от меня углу стола. – Интернат есть интернат.
– Аспирантуру мне зарубили, – бубнил я. – Из втуза в пед не берут при готовой диссертации.
– В Москве диплом ни при чем – так, Тома? – шутил Олег. – Что ты хочешь, старик?
– Ему надо устроиться в аспирантуру при нашем НИИ, – ответила Олегу Тамара. – Или при любом деловом человеке. Наукой, Алик, заниматься там не надо. Нужна численность – берут своих. Без захолустных склок. Это в Москве давно уже стало правилом: аспирантуру содержит при себе каждый оборотистый бонза.
– Информация для внутрикомпанейского пользования, – сообщил мне тихо мой сосед.
Разговор запомнился. Вот это да! А Артамонов в Переславле лез напролом.
Отстал Переславль во всем. Тут, у Тамары, я присутствовал при самых, казалось мне, первых приобщениях к новым – будто они только-только сошли с конвейера, – образцам культуры. Не без насилия над собой я начал впитывать их. Окуджаву воспринимать без отвращения, как и других бардов, от ударов по гитаре не вздрагивать в испуге, как и от приволакиваемых в песни тайги, электричек и тут же, почему-то, Освенцимов. Несколько примитивно все это. Но я понимал: это язык интеллектуалов. (И стал замечать, как потом образцы распространяются среди студентов. Так они превращались в ширпотреб.)
Странными казались лишь уходы компании. В коридоре – ни теплых слов, ни беззаботности. Без простоты ритуалы расставания – у каждого свой – были настораживающе холодными. Все общее словно оставляли на кухонном столе. Подобрав тряпкой окурки, фантики, объедки, я выбрасывал их в контейнер у Сетуни и мчался на автовокзал.
Перерывы в карнавале были долгими. Вина то Тамары – телефон не отвечал, то моя. Я уединялся в общежитском читальном зале. Это казалось глупостью и авантюрой – в захолустье сидеть над алгебраической топологией. Но почему-то это затягивало. Да и деваться было некуда.
Я понял, почему Переславль бесцветен. Что было, до Тамары, здесь? Прозябание. Магнитофон в комнате был недешев. Его купил соседу отец, военный. Но запись! Уже набивший оскомину Высоцкий вперемешку с тюремными графоманствами. А слушатели тянулись отовсюду. Я теперь видел: они бывшее в употреблении принимают как новинку. Меня коробило. Римма из педвуза хотя бы не обезьянничала. Вспоминалась как пятно света в темном царстве – не лицо, а одна округлость, не фигура, а бесформенное что-то.
При виде эталонных красавиц Переславля – дефицита на образцовых фигурах, росписи тушью, кремами, юных лиц, их молодого бесстрашия – мне вспоминалась Тамара. Ко всему этому она дома добавляла библиотеку, интеллектуалов, новинки, некокетливость. Только ли? Всегда – непросто с ней рядом, с ее уходами в себя. Местные красоточки блекли.
Оставалась только Римма – моя знакомая. Шахматы в пединститутском подвальчике. Походы с новыми и новыми компаниями, часто – по предложению Риммы: в дебри, называвшиеся природой. По музейной пустоте в залах, на гастроли общеизвестных «звезд» из Москвы.
Это наскучивало – ехал к Тамаре. Правда, со мной ей стало трудно. Не из университетского круга. Не приближенный типа Осташова…
– Олег не хотел тебя огорчать, – увеличивала Тамара список трудностей. – Но Велесов из Совмина ему поручил найти аспиранта-москвича. Нет у тебя прописки.
Олег, по субботам устраивавший компании то билеты на Таганку, то знакомства с передовыми поэтами, то преферанс на всю ночь, однажды предложил мне: «Ты захочешь стать ученым помощником боссов. Поддержу».
Кто бы ни брался за мою персону, список трудностей рос. Папа тоже не помог.
– Папа удивил меня: нянчишься с университета с изгоями, сказал. – Тамара стояла спиной, статная, грустная. – А теперь, мол, связи растаскиваются по захолустью. Лучше бы ты не учился в Переславле.
Но о чем она печется? Олег мне ведь все рассказал: поддержит. Артамонов был для меня безобидным старым ослом. Расстояние между двумя точками необязательно преодолевать прямиком. Как и во втузе, в Москве можно науку делать без школы.
Я просчитывал варианты. Как буду предлагать свое молодое тело бонзам для содержания его в аспирантурах. Соглашаться на конфиденциальные их условия. Вообще изображать своего в доску. Чему-то я за жизнь научился. Я найду, поближе к дипломной защите, нужного человека. А компании Тамары – в ней нет одержимых наукой, я никому не конкурент – останется лишь позвонить ему. Тот же Олег меня поддержит!
Молчание затянулось. Поделившись с Тамарой открытием – как, числясь при бонзе, я займусь в Москве топологией, – я наткнулся на холодный надменный взгляд.
– А не хочешь пойти на мехмат? – и от вопроса повеяло холодом. – Там берут из грязи в князи.
Показалось, что я никогда не был здесь раньше: не только кухня, но и сердце Тамары выметены дочиста – ни соринки от меня нет. Сказать мне про недоступных мехматовцев – это намек?
– Мне не приезжать? – вырвалось у меня.
– Заходи. – Тамара капризничала. – Тебе надо быть проще, как отец шутит.
И мы говорили о ее маме, вечно кочующей. Она, мол, так и не нашла себя. Помогала в неприветливых московских трущобах научным неудачникам.
Сменщица Аренина была на кухне в следующий мой приезд. Застал я и маму, распекавшую дочь:
– Тамурзик, девочка Гаврилюк плакала. Надо тебе вмешаться. Ты, парень, подожди в подъезде.
– Аренина друг? – сменщица мне. – Сиди на стуле – слушай, это же оскорбительно! Вместе спариваются – тут, в котельной, при мне же. И говорят об учености меж собой…
Я ждал за дверью. Вышла сменщица. На площадку выглянула Тамара:
– Парень, возвращайся. А женщина… Кто сменщик Аренина еще?
– Аренин рассчитался уж, – со ступенек сказала сменщина, уходя. – Расти поедут к ней в институт белорусский. Ой, помогите их спровадить – деньги, что вы сейчас дали, не проученили бы…
Ночевал я, как всегда, на кухне.
Утром послышались шаги.
– Я сделал завтрак, – я замолчал, глядя на Тамару и не видя ее. В глазах бежевых чернеют, расширяясь гневно, зрачки. Скорбь фигуры, где мешковата одежда, как на статуе. Что с ней, я не понял.
Помогая ей за завтраком прийти в себя, я хохотал над ее рассказами об Осташове. Вечером, добавила она, компания уводит ее на Таганку. Я простился. Она сказала:
– Не пропадай, ладно? Не унывай – ты там развеешься.
По дороге я винил себя во всех грехах. Хотелось почему-то начать с начала – с выхода девочки в мини-халатике, голоногой на крыльцо. В безлюдье там был бы опять я.
VI
Тамаре я звонил с понедельника. Для диплома я сделал все, что планировал. Вдруг утром подняла трубку мама:
– Вы Восковцев? Двигаете математику в Переславле? Наверное, вы там корифей. С Тамарой, она просила передать, а многие ей звонили, между прочим, все хорошо. Не унывайте. Надо творчески работать и видеться вам.
Я тут же вспомнил – сегодня четверг, все на службе. Прервав этот набор слов, попросил рабочий телефон Осташова.
– Заезжайте в контору, пообщаемся, – пригласил Осташов после заверений, что с Тамарой все хорошо. – Вас ждать?
– Завтра, – сказал я.
Я ждал окончания его рабочего дня на крыльце его конторы. Он до метро говорил о непризнанности математики в Москве. Даже если тебя, мол, распубликуют от Северного до Южного полюсов, ты не сможешь растопить сердце столичных львиц. Среда их портит – не помнят о заслугах. Среда трескотней глушит открытия.
Мы с ним решили – не пропадать, встречаться. Я сразу уехал в Переславль. Потом – звонил.
Вскоре начались беседа за беседой. Я признавал заслуги Осташова. Испытывать почтение к нему мне нравилось.
Он говорил экстравагантно. О том, что мелиорация не нужна самим мелиораторам. Что Брежнев старый, и все кончится с его смертью. Были электрификация, химизация, а за мелиорацией последует компьютеризация.
Мы расставались у метро. Я звонил ему из Переславля.
А ездил уже по субботам и воскресеньям. Ездил в Дашино. К его дому. Ездил – от Тамары.
После того, о бонзах и топологии в Москве, разговора Тамара бросала мне при встречах:
– Ты не хочешь быть в столице!
Нервная ниточка меня обжигала. Это о математике? Вопрос не задать – Тамара опять кажется приветливой. С веником летает по коридору. Как ни в чем не бывало напевает: «Девочка плачет – шарик улетел». Ниточка заворачивалась петлями. Ну и дела!
О топологии я больше не говорил ей. Думал: Осташов – вот кто смог уже решить замысловатые теоремы Тамары.
И я его слушал. Теперь – в Дашине мы дышали воздухом – Осташов был свежее. Он в экологах видел смешное: они, мол, могут решить свои задачи, только убив человечество. И улыбался. Говорил, что придется покориться компьютерам вместе с экологами. Он считал, что, в отличие от Маркса, законченная программа есть у Льва Толстого. Компьютеры, добавлял он, еще не подвластны математике: там множество тонких штук можно подчинить уму.
Он каждый раз говорил о новом. Я все воспринимал как должное. Прощались там, где и встречались, – у его дома.
И по дороге в Переславль я чувствовал себя в унисон с Осташовым. Мне хотелось быть мягче и деликатнее с попутчиками. В Переславле работа над дипломом шла необременительно.
Однажды по пути к Дашину я завернул в интернат. Тамара провожала меня от своего дома до остановки автобуса. Той, что рядом с проходной интерната.
В фойе цеплял окрик, словно крюк. Не любили посторонних и в наше время. Заградукрепления подозрительных взглядов, бесцеремонных вопросов: «Вы когда кончили? Что здесь делаете?» Будто у педагогов здесь есть дело. Здесь, в интернате при МГУ.
Пол обшарпан. Мебель – рухлядь. Как всегда. Прошел я в спальный корпус – с пустыми коридорами. С принесенными, кажется, со свалки койками, с грубыми покрывалами, с грязными и дряхлыми, как в ночлежках или сторожках, столами в комнатах на шестерых-восьмерых.
Разговоры с учениками не залаживались.«Какие трудности их ждут?» – хотелось им излить душу. У них оптимизм. А кто я – неудачник, поступивший в захолустный институт? Фраза застывала в горле. И я сказал о радостях от занятий математикой.
Слушали с отсутствующим видом. При этом они, казалось, не были заняты ничем радостным. Кто-то лежал, глядя в потолок. Кто-то сидел у пустого стола. Здесь о науке преподаватели детям говорят часто.
«Не пропадай!» – у проходной вспомнились слова Тамары. Она сказала их, когда проводила меня до интерната.
– Тамара сказала, что вы не пишете диссертацию, – говоря это в Дашине Осташову, я сжался, точно пересекал невидимую границу.
Мы никогда не заводили с ним речь о математике. Мне хотелось, чтобы он хотя бы заикнулся.
– У меня нет связей, – ответил он.
– Решая задачи, я чувствую себя космически одиноким, – произнес я извиняющимся тоном.
Я не терял надежды, что он вспомнит о математике. Я думал о его таланте.
– Тамара не умна, не хочет понять себя, – вырвалось у Осташова.
Эту тему я не подхватил. Но от молчания своего сжался опять. А вдруг он пересечет невидимую границу и, не поняв меня, так и не поняв меня, уйдет? Терять его, интернатовца, я тоже не хотел. Я даже надеялся, что он когда-нибудь захочет меня отыскать, позвонит. Мы шли молча до метро.
Шанс у меня не пропал. Мы расстались спокойно: молча пожав друг другу руку.
По дороге в Переславль в автобусе я жалел незаметного в научной среде, – где как бы в отдельных пещерах ютились узкоспециализированные племена математиков: в каждом есть вождь, безответные и раболепные подданные, – Осташова. Его словно бы бросил скрывшийся в подземелье научный руководитель из МГУ Терентьев. Я жалел, что время Осташова уходит.
Он не считал так, впрочем.
– Занят неимоверно, – при следующем моем звонке Осташов деловито перечислял, – пишу целую монографию, математизирую ЭВМ. Гаврилюк повидали? Пока.
Звонок Тамаре:
– Где встретил Осташов Гаврилюк?
– Пора приезжать, – просьба Тамары из Москвы. – Я не в себе из-за Аренина – трушу.
– Где он?
– Вадьку порезали. Пора тебе смелеть.
Трубка упала.
Куда мне идти в Переславле из переговорного пункта? Звоню опять Осташову.
– Это буффонада Аренина – хочет привести кокотку в чувство, – Осташов уже сердился. – Никто не резался. Лишь Тамара поиграет в новую игру.
– Объясните, – я взмолился. – Не бросайте трубку.
– Мне не говорят, что делают, – сказал Осташов после фразы: Гаврилюк, мол, при Тамаре. – Сидите в своем одиночестве. У Тамары, поймите, есть нам с вами замена. Матрешка-яга – новое изобретение.
– Вадька Аренин… – попытался я перебить. – Где он?
– Я тонкую штуку нашел, – Осташов словно не слышал. – Машины поддаются – если ЭВМ гибки – уравнениям, о которых ведь мы говорили. Пока.
(Продолжение следует)
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

