Несколько слов о немоте
Мне тоже опять захотелось высказаться о Шукшине, теперь уже по известному, юбилейному поводу. На днях, рекламируя предстоящую передачу о Василии Макаровиче, один из центральных телевизионных каналов представил Шукшина, как великого актера и режиссера, не упомянув ни словом его писательство. Это меня просто поразило вот чем. Я подумал, что наша сегодняшняя официальная культура действительно, скорее всего, не считает Шукшина великим писателем, поскольку, по ее, очевидно, негласному мнению, тексты этого автора не идут ни в какое сравнение с продуктами выдающегося творчества Марининой, Акунина, Достоевского, Кивинова и других. Можно ли поставить по тексту рейтинговый сериал? Таков критерий. При этом сами соответствующие сериалы обычно причислять к кинематографическим шедеврам совсем не обязательно, но можно, и лучше указом каким-нибудь или решением большого, то есть авторитетного жюри. Так, из всех сериалов, поставленных по мотивам выдающейся прозы, шедеврами у нас признаны два. Менты и Идиот.
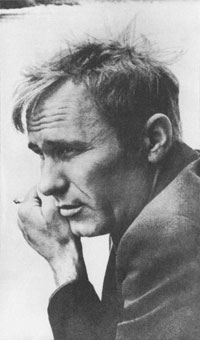 |
| В. М. Шукшин |
По прозе Шукшина удобоваримый телесериал снять, на мой взгляд, невозможно. Попытку, в сущности, сделал сам Шукшин, так как все его фильмы, в известном смысле, можно считать элементами одного большого кинополотна, несмотря на отсутствие сквозной сюжетной линии. Попытка эта не может, я думаю, считаться удачной с точки зрения нашего теперешнего экспертного попсово-рейтингового как бы комитета по шедеврам, и, следовательно, Шукшин не был, с их точки зрения, ни великим режиссером, ни великим актером. Однако причисляют почему-то, вероятно принимая ВМШ за эдакого киношника-деревенщика, вгиковского почвенника и совестливого защитника доисторических фермеров, а это нынче политически грамотно, это в одном ряду с гуманизирующей органичностью (от слова органы) чернухи Ментов, и с доведенной до несколько вялотекущей шизофрении социальной ответственностью гуманоида Мышкина.
Далее. Удивившись отказу культурного официоза признавать на уровне своего подсознания в Шукшине-писателе сеятеля разумного, доброго и вечного, я затем очень порадовался этому, поскольку таким сеятелем, с точки зрения ревнителей эстетической совести, Шукшин никогда и не был. Он был из разряда сомневающихся, и если и приделывал к своим рассказам какую-нибудь явную новозаветную мораль, то только потому, что этого требовала железная русская традиция. Ну какое может быть разумное, доброе и вечное в конструируемом ВМШ мире, если этот мир разбит на множество других, взаимно отталкивающихся миров, в каждом из которых по Шукшину живут отдельно как бы авторитеты, просто блатные, приблатненные, придурки, шестерки, мужики и опущенные?!
Правда, герои писателя о разумном и вечном говорят как раз очень много. В этом вся соль. Для взаимного общения обитателей вышеуказанных миров нужен некий язык, и он существует. Шукшинский, так сказать, язык. Вариант русского. Это не обычная смесь просторечного словотворчества, вульгаризмов, утрированных соцреалистических цитат, партийно-газетных оборотов и фени. Не обычная в том смысле, что в большинстве подобных случаев новый язык всегда несет на себе печать некой стилизации, намеренный след авторской работы, потому что транслируется не просто новая речь времени, что понятно, а одновременно философское послание соответствующего писателя. Так было у Зощенко, Платонова и Солженицына. У Шукшина это не так, но дело даже не в этом. А в том дело, что русский язык у Шукшина вроде как разбивается на множество мало похожих диалектов, выражаясь осторожно.
Вот, скажем, один из очень характерных образцов шукшинского новояза, из рассказа «Залетный»:
«...человек — это ... нечаянная, прекрасная, мучительная попытка Природы осознать самое себя. Бесплодная, уверяю вас, потому что в природе вместе со мной живет гемморой. Смерть!..»
То есть смерть — гемморой. И вот вокруг такого «геммороя» и накручиваются пронизанные странным, жалким и каким-то не своим пафосом речи умирающего деревенского «мудреца» — маргинала, человека без классовой, или сословной принадлежности, без семьи, без биографии даже. Чего только нет в этих речах умирающего от какой-то неизлечимой болезни алкоголика?! И сознание бесконечности, когда тепло и стемнеет, и сорок весен, и сила со слабостью, и жизнь с начала, и далекие горы, и любовь. И вдруг такое, вполне «житейское» определение смерти. Гемморой. Вроде оговорки. Но ее, этой оговорки, могло и не быть. Все равно герой рассказа — Саня — изображен так, что все эти недеревенские слова, вся эта мудрость — кажутся уместными только в кругу реально деревенских мужиков, обалдевающих и быстро устающих от импрессионизма словосочетаний непривычных, и только для них зачем-то придуманных. Сам же Саня к деревенским мужикам отнесен быть никак не может, то есть и рассчитывать на «понимание» не может и, следовательно, мудрености свои внутри себя может отложить в сторону, как пустые, а оставить себе только одно это, что-то ему говорящее слово «гемморой». Выясняется интересная вещь из этих шукшинских рассказиков. Оказывается, людям, на самом деле, нет никакой реальной нужды уже говорить друг с другом о чем-то существенном, и поэтому всякая речь превращается в не слишком адекватную игру в речь. Герой «Залетного», пьянея, перестает произносить членораздельные слова, а просто мычит, что вполне устраивает его почитателей. Процесс выбора слов имеет некий вероятностный характер и управляется очень неопределенным законом распределения при этом. Да и сам факт говорения — словно результат игры в орел-решку. Выпала решка, ну и заговорил, сам того не ожидая. Чувствуется это почти в каждом тексте. Ну зачем герою рассказа «Охота жить», беглому вору, с таким пафосом и так долго излагать старому охотнику свою такую неоригинальную сверхчеловеческую философию, тем более зная, что он своего слушателя завтра убьет? А это игра в речь. А по существу, людям уже все равно, как и что они, а, главное, им говорят от скуки или по привычке. Речь ничего не меняет в лучшую сторону, ни на что хорошее не влияет, и от нее ничего не зависит положительного. Единственное, на что способна речь, это на высвобождение ненависти, раздражения, усталости или злобы. Даже для помыкания, использования одних людей другими, речь обычно бывает излишня и даже опасна, что и доказывается в рассказе «Ораторский прием». И вот, слова используются без необходимости, а русский язык, внешне, в своих оборотах оставаясь неотличимым от используемого современными Шукшину советскими писателями, превращается по сути в бессмысленный почти набор слов, во всяком случае, для того, к кому этот набор обращен. Варианты бывают разные. Иногда диалоги и монологи героев ВМШ воспринимаются читателем, как веселая пародия, иногда как тяжелый фарс, а иногда и как некое откровение даже, как, вероятно, в случае с Алешей Бесконвойным. Все это имеется, но, на мой взгляд, состояние случайности, конечной необязательности слов, произнесенных любым из героев Шукшина, сохраняется.
То есть мне представляется, что в известном смысле проза Шукшина есть жизнеописание глухонемых, не владеющих при этом необходимой специфической техникой общения. А за ненадобностью не выучили.
Снять же приличный телесериал о жизни таких неумелых глухонемых невозможно. Нет, один-два героя или одна-две героини — это еще можно. Но чтобы все! Вряд ли. Вот Менты, например. Важно ведь не столько то, что они делают, а то, что говорят при этом. В Идиоте же вообще не важно, что делают, и даже, что говорят. Главное в Идиоте — как говорят! Сказать-то ты скажешь, да кто тебе поверит?! Что касается ВМШ, то мне трудно себе представить, как можно адекватно отрежиссировать и сыграть эту говорящую немоту. Даже самому Василию Макровичу это не вполне удалось. Что и требовалось доказать, поскольку немоту эту самую, знаковую, трагическую, через бесконечные эти беседы при ясной Луне, мог не придумать, а поведать нам только действительно великий писатель. Разумеется тогда, что разумное, доброе, вечное — все-таки сеется, но не так, не то, и не там, как это должно быть по представлению нашего вечно одного и того же, хотя и вечно нового, агитпропа.
Я уже писал, кажется, что для русского человека правда потому и утопическая вещь, что вещь эта для нас действительно святая. А она есть, эта правда, в судьбе каждого человека, и является всю нашу жизнь главным предметом осознанного или неосознанного выбора. И в этом пожизненном выборе заключается величие простых сердец, о котором писал Платонов. Но когда я в очередной раз перечитываю известные платоновские притчи о таком выборе, то есть, «реку Потудань» и «Возвращение», тогда я снова и снова понимаю всю утопичность этих великих историй.
Потому что истории эти о возможности окончательного выбора, отчего в них жизнь как бы уравнивается с одухотворенной правдою вечностью, которая и есть желанный порядок. Это мечта. Герои Шукшина потому и немы, что одержимы этой подсознательной мечтой, несмотря на то, что существуют внутри воплощенной антиутопии, почти такой же, как и во времена Платонова и Зощенко. Когда есть вечность, но без правды.
То есть, если, как мне кажется, действие рассказов Платонова с момента какого-то внезапного просветления героев происходит как будто в загробном уже мире, по ту сторону последней черты, перейдя через которую герои обретают общую истину, более не нуждающуюся в словах, то в случае Шукшина все обстоит гораздо хуже. Автор не столь милосерден, и лишает смысла вербальную деятельность героев, так ничего и не предлагая беднягам взамен.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

