Моллой умер. Знаки препинания – 59
Знаки препинания – 59:
Пол Остер «Нью-Йоркская трилогия» («Эксмо», 2005)
Часть первая
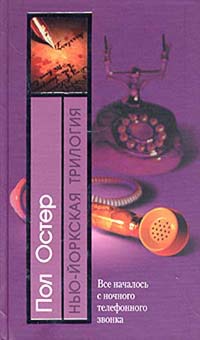 |
1.
Все романы Пола Остера про одно и тоже, про «выпадание» и «вненаходимость»,
которые категорически нужны человеку.
С персонажами Остера случается некоторое исходное событие (серьёзное
потрясение, личная драма), от которой начинают ответвляться ростки
самых разных следствий-последствий.
Причём, растут эти побеги не только в будущее, но и прошлое.
Вскрывается бездна совпадений и предзнаменований, символических
(трагических и счастливых, но, чаще, всё-таки, трагических) совпадений,
с помощью которых человек познает себя.
Точнее, ему кажется, что познаёт, потому что только смерть и может
расставить все акценты (об этом говорит кто-то из персонажей «Трилогии»).
Остеру важно замесить густое вещество жизни, вывалить на читателя
массу иллюстративного и событийного материала, который начинает
восприниматься как череда знаков.
Впрочем, любая череда чего бы то ни было, воспринимается как знаковая,
если смотреть на неё отстранённо, с некоторой дистанции: наблюдатель
обречён осмыслять увиденное (прочитанное) и хотя бы поэтому наделять
то, что происходит хоть каким-то смыслом.
Закручивается семиотическая карусель, которая (как кажется) должна
вывести к общему знаменателю.
Так уж приучены читатели романов – сложить сюжетный пасьянс и
чётко расставить акценты в финале.
Но Остер всегда бежит этой однозначности, как бы забывая поставить
вторую скобку.
У него всегда в конце гуляет ветер, и многоточие трепещет на ветру,
как флажок...
Конструкции Остера принципиально открыты, лишены рифм и симметрии
(хотя, при желании, их легко можно отыскать, я сам несколько раз
занимался этим на примере романов «Тимбукту» и «Храм Луны»).
Параллельные прямые (персонажи и фабульные приключения) тянутся
им через весь текст, но они обречены не пересекаться.
Иначе выйдет совсем уж искусственно.
Конструкции романов Остера далеки от правдоподобия (однажды я
уже писал, что в этом и заключается его know-how – каждое событие,
если его брать отдельно, выглядит достаточно правдоподобным, но
когда все они нанизаны на один шампур, плотность происходящего
кажется нарочитой), поэтому симметрия и должна отсутствовать,
ибо все эти фабульные перекосы придают придуманному ореол правдоподобия.
Искусственное искусственного Пола Остера не интересует, куда важнее
намечать сады разбегающихся тропок – чтобы читатель, свободный
в своём чтении, прокладывал эти тропки в реальности уже сам.
2.
Все романы Пола Остера про одно и то же – про соотношение вымысла
и реальности, про границу между искусством и жизнью, которые постоянно
нарушают его персонажи.
Искусство – это, в первую очередь, литература (во вторую, конечно,
кино), то есть те области, которыми занимается сам Остер.
То есть, конечно же, Остер, в первую очередь, исследует свой собственный
писательский опыт.
В этом нет ничего странного.
Во-первых, писание есть самотерапевтическая практика избывания
и забывания; во-вторых, это хороший способ бегства от действительности
путём проживания собственных альтернативных историй.
Почти как по системе Станиславского – вживаешься в сочинённый
образ, в придуманные обстоятельства и существуешь внутри них.
Не случайно, персонаж «Стеклянного города» (первая часть трилогии)
пытается стать человеком по имени Пол Остер, а потом и находит
этого человека.
На лицо обнажение приёма – чтобы не заиграться, Остер смотрит
на себя со стороны якобы чужими глазами.
Только в отличие от актера, писатель не зависит от «чужого слова»,
он тут демиург (хотя и картонный), может устроить всё так, как
ему самому нужно.
В этом самоволии и таится главное искушение: придумать такой мир,
где интересно и уютно тебе самому.
Для того, собственно говоря, всё и затевается.
А иначе зачем?
Так вышло, что «Нью-Йоркская трилогия», дебютное произведение
Остера приходит к нам едва ли не в последнюю очередь, после обнародования
по-русски более поздних текстов (спасибо товарищу «Эксмо» за вовремя
затеянную серию).
Хотя «Стеклянный город» в переводе А. Ливерганта и выходил дважды
– сначала в «Митином журнале (? Или в «Комментариях»), а затем
и в «Иностранной литературе».
Но смыслы, которые закладывает Остер в «Трилогии» невозможно извлечь
только из одной створки (левой? Правой?) этого триптиха.
Только полный объём позволяет составить впечатление от бумажного
города в полном объёме.
3.
Сюжетные линии ассиметрично расходятся в разные стороны как троллейбусные
дуги, соскочившие с электропровода.
Симметрия – знак коммерческой предвзятости, ату его.
Всё началось с телефонного звонка.
Ошибочного.
Позвонили не туда, спросили сыщика Пола Остера и автор детективных
романов по фамилии Квинн назвался чужим именем.
Именем Пола Остера.
Взялся за расследование.
Человеку (Питер Стиллмен), которого отец продержал взаперти много
лет, грозит опасность: отца выпускают из заключения.
Питер Стиллмен страдает косноязычием, его многостраничный и путанный
диалог – первое испытание для читателя.
Квинн начинает следить за стариком-отцом, входит с ним в контакт.
Потом старик пропадает и Квинн начинает следить за квартирой Питера,
сидит в мусорном баке, опускается, отпускает бороду.
Разгадка ускользает и это сводит Квинна с ума.
Он пробирается в опустевшую квартиру Стиллмена, выкидывает одежду
в окно, спит голый.
С ним остаётся только красная тетрадь, в которой он фиксировал
все свои мысли по поводу расследования.
Красная тетрадь (так, кстати, называется книга дневниковых записей
самого Остера) фигурирует во всех трех текстах книги.
Время от времени кто-то приносит Квинну еду, он не видит кто,
но ест.
Ест и пишет.
Таков финал «Стеклянного города».
Вторая часть называется «Призраки» (перевод С. Таска) и в ней
действует сыщик, которому поручают следить за человеком, пишущим
текст и читающим Торо.
Сыщик снимает квартиру с окнами напротив, следит за объектом,
который читает и пишет, пишет и читает.
Постепенно сыщик понимает, что ничего не понимает.
В конечном счёте оказывается, что читатель-писатель нанял нашего
сыщика, чтобы у него был соглядатай.
Сложная система зеркал и отражений.
Все персонажи «Призраков» имеют абстрактно-цветовые фамилии –
Желтиков, Синь, Краснянский...
Всё заканчивается мнимым соединением объекта и субъекта, сыщика
убивают.
Снова мелькает «Красная книга», объясняя, зачем Остеру понадобились
для описания персонажей (их имён) все краски радуги.
Тезис – антитезис – синтез.
В «Запертой комнате» (перевод С. Таска), третьей части книги,
появляются следы и Квинна (который безнадежно исчез) и Стиллмена
и многих других.
В центре история двух друзей, которые вместе росли и учились.
Потом один из них, Феншо, исчез, оставив гору рукописей.
Вдова Феншо находит друга детства, ставшего писателем (это «явный»
Остер из первой части трилогии), чтобы тот помог определиться
с наследием бывшего мужа.
Тексты оказываются гениальными, начинается раскрутка новой литературной
звезды.
Вдова Феншо оказывается ещё лучше текстов Феншо и рассказчик женится
на ней, усыновляет сына Феншо, начинает писать биографию пропавшего
писателя.
Который, на самом деле, не пропал, а спрятался.
Многие мудрости – многие скорби: горе от ума – всяк храм мне пуст,
всяк дом мне чужд и всё равно и всё едино.
Перед самоубийством, Феншо, который сидит в запертой комнате на
окраине Бостона, просит о встрече.
Оставляя в наследство всю ту же красную тетрадь (составители книги,
видимо, в качестве эпилога приводят фрагмент из одноименной книги
Пола Остера, относящийся ко времени написания трилогии – «Всё
это правда. Как, впрочем, и остальные истории, вошедшие в мою
красную тетрадь...») вместо завещания.
Разгневанный рассказчик рвёт её на части.
4.
Конечно, «Нью-Йоркская трилогия» – о литературе, силе и бессилии
воображения.
Пол Остер зачарован этой возможностью высказывания (кино в его
творчестве придёт позже), ловушками и тупиками (запертыми комнатами),
в которые попадают пишущие люди, но лазейками, которые литература
им предоставляет.
Несмотря на путанность-запутанность сюжета, книга Остера является
прямым и вполне конкретным феноменологическим актом, направленным
на раскрытие особенностей писательского ремесла.
Неслучайно, все главные персонажи книги, так или иначе, пишут.
Писателя очень любят изображать в кино, когда нужен показать непредсказуемого
и изобретательного (изощрённого) маньяка.
Потому что это очень просто – человек морщит лоб, рвёт недописанную
страницу, истово стучит по клавиатуре...
Кино, как ему и положено, лишь внешне изображает писателя, кино
не может проникнуть внутрь этого чёрного ящика: суть процесса
неуловима (её и сам Остер показать не может), зато очень хорошо
видны последствия.
У литературной работы очень много следствий, сугубо психологических
процессов, превращающих литераторов в особый биологический вид.
Трилогия Остера как раз о таких мутантах и мутациях.
Эксперимент ставится на самом себе.
Невидимые лучи обрабатывают организм Остера, процесс ещё незакончен.
Отсюда и фабульное многоточие.
Ведь все линии начаты, бодро развиты и точно так де бодро подвешены.
Зависая над пустотой, они корчатся от многообразия трактовок,
каждая из которых неинтересна автору: он-то своё дело уже сделал,
написал, то есть, прожил часть жизни в сладком сне сладкописания.
Ведь писать – что может быть слаще?
5.
Существует особая Остеровская суггестия, нагнетание неопределённости,
которая и выполняет роль драматического напряжения, необходимого
для того, чтобы читателю было интересно идти по тексту дальше.
Остеровская суггестия связана с тем, что автор скрывает от читателя
«способ существования».
Есть в театральной практике такой термин: это когда режиссёр ставит
актёрам задачи.
Когда актёр приступает к работе у него нет ничего, кроме текста
и внешности.
Актёр придумывает персонажу какие-то характерные особенности.
Но и этого оказывается мало.
Режиссер, для придания сценическому образу цельности, должен предложить
актёру (актёрам) особые способы существования.
Ну, например – «играйте так, будто бы у вас в этой сцене болят
зубы».
Или – «играйте так, как будто между третьим и четвёртым актом
прошло двести лет»...
Зрителю способ существования не раскрывается.
Этого не нужно.
Однако, заставляя актёра играть так, а не иначе (зуб болит), режиссёр
заставляет зрителя разгадывать рисунок существования.
Мессидж послан, и каждый сидящий в зрительном зале должен его
разгадать.
Точнее, выдвинуть свою версию происходящего.
Должен, ибо иначе интересно не будет.
Точно так же, порой, строится и механизм общения автора и читателя.
Через текст, разумеется.
Между этими двумя берегами существует некая презумпция осмысленности
– ведь если автор делает то-то и то-то, то он делает это осмысленно,
зачем-то, он что-то этим самым хочет сказать.
Потому что если бы он хотел сказать что-то иное, он и написал
бы иначе.
Короче говоря, пушкинское суди автора по законам им самим над
собой признанным оказывается единственно возможным правилом чтения.
Мы не знаем (и никогда не узнаем) истинных намерений человека,
написавшего тот или иной текст.
Но мы вынуждены придумывать себе эти причины и мотивы для того,
чтобы присвоить его текст в процессе чтения.
Хотя бы частично.
Вполне себе модернистская, мифотворящая парадигма.
Ведь беллетристика и поп-литература таких многозначностей не имеют,
не их коленкор.
Масскульт зиждется, держится на однозначности зарабатывания –
денег, авторитетов, медиального присутствия...
В коммерческих постановках антрепризных групп способ существования
вопиёт гротесковым комикованием, здесь нет и не может быть неясностей,
иначе зритель своего комфорта не ущучит.
Иное дело – сугубый серьёз, в котором нет и не может быть однозначности.
(Окончание следует)
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

