Психологические архетипы в «Мёртвых душах» Н.В. Гоголя (Окончание)
III. Шесть гоголевских архетипов
Творчество Гоголя, собственно, можно подразделить на три этапа.
Первый – это период, если можно так выразиться, его объективного
самопознания, который он описывал в своих повестях до «Ревизора».
Второй – это «Ревизор», в котором начинается проявление плодов,
предшествующего постижения реальности; именно, в нём был заложен
фундамент, будущих полноценных архетипов, выражаясь языком Юнга,
коллективного бессознательного, где он описал шесть типов провинциальных
чиновников. Третий – это «Мёртвые души», которые можно без стеснения
называть первым учебником по психологии, в котором были точно
определены эти психологические архетипы. Первый и второй, посему,
мы не будем подробно разбирать, а вот на третьем остановим своё
внимание, так как он представляет собою плоды от первых двух.
Архетип № 1 – Манилов
 |
П. Боклевский. Манилов
Первым, к кому приезжает Чичиков, – Манилов, «весьма обходительный
и учтивый помещик». Уже само название имения, в котором он живёт,
Гоголь переиначивает из Маниловки в Заманиловку. То есть, сразу
же автор вводит читателя в курс того, что впечатление, которое
производит внешне Манилов, весьма обманчиво, что и привлекает
к нему внимание. И фамилию, очевидно, Гоголь дал своему персонажу,
имея в виду глагол «манить». Обращает на себя внимание беседка
с деревянными голубыми колоннами и надписью «Храм уединенного
размышления». Манилов, собственно, мнил себя древним философом,
этаким мудрецом, которому место в академии Платона, где бы он
размышлял о вечном в компании с каким-нибудь подобным ему, мыслителем.
Но так как поблизости таковых не оказалось, то свои инфантильные
фантазии он перенес на двух своих детей, назвав одного Фемистоклюс,
а другого – Алкид. Хотя Гоголь и говорит, что «эти господа страшно
трудны для портретов», и «придётся напрягать внимание, пока заставишь
перед собою выступить все тонкости, почти невидимые черты, и вообще
далеко придется углублять уже изощренный в науке выпытывания взгляд»,
но всё же он уловил перенесение Маниловым своей индивидуальности
на своих же детей, и в них, пока они маленькие, можно различать
сам портрет помещика, который «улыбался заманчиво, был белокур,
с голубыми глазами» – прямо, как Эрос. «В первую минуту разговора
с ним не можешь не сказать: «Какой приятный и добрый человек!».
В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь:
«Черт знает что такое!». То есть, Манилов пришел к такому периоду
своей жизни, когда ему желается чего-то такого фантастичного,
которое ни при каких условиях, ни исполнится вовсе: ему необходимо
просто желать и мечтать. Мечтать о благополучии дружеской жизни,
о мосте через реку, об огромном доме, о рассуждениях о каких-нибудь
приятных предметах, например, как бы они вместе с Чичиковым щеголяли
на балах и.т.д.. Нам нет смысла более подробно останавливаться
на самих по себе образах, так как моя задача заключается в том,
чтобы определить типы, особенно, в том, как они проявляются. Всё
остальное можно прочесть и в романе.
Архетип № 2 – Коробочка
 |
П. Боклевский. Настасья Петровна Коробочка
Второй персонаж, к которому, по воле случая, заглянул ночью Чичиков.
Помещица-вдова, подверженная фобии накопительства. Модный образ
в настоящее время. Единственное, о чем думает Коробочка, так это
о том, куда бы сбыть то, что производит её хозяйство. Посему,
она боится того, чтобы её, не дай бог, обманули. «Может быть,
станешь даже думать: да полно, точно ли Коробочка стоит так низко
на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно
ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосягаемо
огражденной стенами аристократического дома с благовонными чугунными
лестницами, сияющей медью, красным деревом и коврами, зевающей
за недочитанной книгой в ожидании остроумно-светского визита,
где ей предстанет поле блеснуть умом и высказать вытверженные
мысли, мысли, занимающие по законам моды на целую неделю город,
мысли не о том, что делается в ее доме и в ее поместьях, запутанных
и расстроенных благодаря незнанью хозяйственного дела, а о том,
какой политический переворот готовится во Франции, какое направление
принял модный католицизм».
Архетип № 3 – Ноздрёв
 |
П. Боклевский. Ноздрёв
Архетип, если так можно выразиться, чистого инстинкта – есть образ
помещика Ноздрёва. Пьяница, дебошир, шулер и форменный дурак.
Более, тут уж и говорить нечего. Ибо, сконструированный Гоголем
тип Ноздрёва, который функционирует на уровне примитивных чувственных
ощущений, – суть тип Anencephalus (безмозглый – лат.), имеющий
органы чувств, но лишенный мозга. Это тот тип мужчины, который
очень нравится женщинам. Хотя, они в этом никому не признаются,
ибо это их тайное сердечное желание: девятка червей женских сердец
– можно так назвать архетип Ноздрёва.
Архетип № 4 – Собакевич
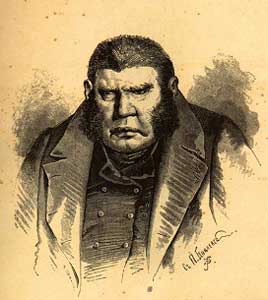 |
Рисунок 1П. Боклевский. Собакевич
Посредством образа Собакевича Гоголь рисует, совершенно отчетливо,
как вещи, которые окружают бездушных людей, несут на себе отпечатки
характеров их хозяев. Случается, человек теряет свою индивидуальность,
ассимилируясь с неодушевленными предметами, в которых он и созерцает
самого себя. Создаётся, некий феномен трансцендентальности Эго,
который раскрыл Гуссерль. Человек как бы живет не в себе, а в
мире. Вещи мира становятся тем зеркалом, в котором он и распознает
самого себя. Здесь, уже заметна линия основания диалектического
материализма, с его теорией отражения, – правда то, что описывает
Гоголь, идёт вразрез с этой теорией, – и более теперь понятно,
почему аристократические делатели коммунистических преобразований
в штыки встречали «Мёртвые души». Действительно, Собакевич – и,
вдруг, коммунист, прогрессист и делатель нового – это что-то невообразимое,
но исторический факт. «Казалось в этом теле (Собакевича) совсем
не было души, или она у него была, но вовсе не там, где следует,
а, как у бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта такою
толстою скорлупою, что все, что ни ворочалось на дне ее, не производило
решительно никакого потрясения на поверхности».
Архетип № 5 – Плюшкин
 |
Рисунок 2П. Боклевский. Плюшкин
В Плюшкине автор воплотил то, что обыкновенно определяет скрягу,
у которого «слово «добродетель» и «редкие свойства души» можно
с успехом заменить словами «экономия» и «порядок»«. Хотя от такой
бережливости в экономии и в стремлении к порядку почему-то крепостные
помещика, выражаясь словами Собакевича, «мрут, как мухи». Самый
большой урожай мертвых душ собрал Чичиков, именно, у Плюшкина:
200 штук. Собственно, посвящая главу Плюшкину, Гоголь оговаривает,
что Плюшкин не родился Плюшкиным, а стал таковым в процессе своего
существования. Поначалу он был человеком предприимчивым и трудолюбивым;
обладал умом, другие приезжали к нему поучиться «хозяйству и мудрой
скупости». Но всё в один миг, рухнуло, и Плюшкин остался в одиночестве,
прозябая свою жизнь, как земляной червь.
Архетип № 6 – Чичиков
 |
Рисунок 3П. Боклевский. Чичиков
Чичиков, в принципе, новый русский человек тех времен, который
в более поздние времена, воспроизведётся как «нэпман», а в нынешние
– как общеизвестный тип коммерсанта, менеджера или торгаша-спекулянта.
У Гоголя он несколько идеализирован. В натуральном виде – это
тип человека, который покупает за 1 рубль всё, что угодно, и что
можно подороже продать, и продает за два рубля. Никакого особенного
ума в этой сфере деятельности не нужно. Барышничество, спекуляция
и прочие атрибуты бабьего духа не нуждаются в определенных особенностях
душевного склада. Скорее всего наоборот: необходимо условие того,
чтобы меньше было душевного в человеке, чтобы было более того,
что функционирует во внешнем мире как нечто такое, которое имеет
некую ценность. Разница в подходах состоит лишь в том, кто ближе
находится к самому лакомому куску в кормушке, растянутой в пространстве,
тот и имеет более возможностей хапнуть кусок посолиднее. Это уже
похоже на водопой дикобразов, где каждый, покалывая другого, пытается
приноровиться к пребыванию в этом стаде. Шопенгауэр в своей притче
очень хорошо по этому поводу рассказывает. Но для этого, как известно,
должно иметься определенное душевное предрасположение: субъект
должен обладать неким характером, который позволит ему, без особенных
раздумий, работать локтями налево и направо. Сегодня это модно
и почетно. Вообще-то говоря, сегодня модно то, что бессовестно,
бесстыдно и то, что вызывает отвращение в любом, кто ещё не утерял
душевных способностей вовсе. То есть, указанные шесть архетипов,
в настоящей России, не есть то, что противно, а есть то, что прекрасно.
«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и
нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри,
вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет
памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у
тех, которые будут после» (Еккл.: 1, 9 – 11).
IV. Повесть о капитане Копейкине
«Уничтожение Копейкина меня сильно смутило! Это одно из лучших
мест в поэме, и без него – прореха, которой я ничем не в силах
заплатить и зашить» – писал Гоголь Плетневу 10 апреля 1842 года,
после того, как цензура не пропустила повесть к печати. И далее
в этом же письме: «Я лучше решился переделать его, чем лишиться
вовсе. Я выбросил весь генералитет, характер Копейкина означен
сильнее, так что теперь видно ясно, что он всему причиною и что
с ним поступили хорошо». Собственно, повесть о капитане Копейкине
– это драматическая история об инвалиде Отечественной войны 1812
года, который возвратился домой, но отец отказался содержать его,
и он отправился в Петербург искать «монаршей милости». Маленький
человек попал в беду, а высокому начальству нет вовсе дела до
него. Посему капитан возвращается к себе на родину и организовывает
шайку разбойников в рязанских лесах. Нам нет нужды рассматривать,
кто прав в этом случае, а кто виноват, ибо вопрос стоит так: Является
ли тип Копейкина, соответствующим противопоставлением, вышеуказанным
шести типам? Разве не подобен Копейкин Ноздрёву? В чём, собственно,
состоит героизм капитана? Допустим, что таким образом он достигает
благосостояния, так в чем разница его от других? Нет разницы.
Масса офицеров увольнялось в девяностые годы прошлого века из
армии, и масса из них занималась грабежами, и что, это должно
быть каким-то героическим актом, который принес государству какую-нибудь
пользу? Или Гоголь просто хотел сказать, что если бы с капитаном
не поступили плохо, то он не стал бы грабить и воровать? Отнюдь.
Все Собакевичи, Плюшкины и Ноздрёвы, только тем занимались и занимаются,
что воруют, жульничают, занимаются аферами. Никто им ничего такого
плохого и ни делал вовсе, а они воруют. Люди они, опять же, хорошие,
гостеприимные и правильные, но воруют. Живут, то есть, думая только
о своём нутре; не душе, а чреве. Напихивают в него всего такого
разного по самую глотку и никак не могут остановиться. Булимия
это называется – волчий голод на всё, что им ещё не принадлежит.
Посему, нет виноватых в том, что человек грешит, кроме как сам
человек, который грешит. Что толку от такого человека, который
поменял рабочую фуфайку на полосатый деловой костюм, если внутренне
он никак ни развился, а так и остался на уровне слесаря пятого
разряда. От него, между прочим, ещё больше вреда становится. Если
раньше он мог болту резьбу сорвать, то сейчас он ручкой, как гаечным
ключом, машет направо и налево. Это, собственно, и неважно… Так
было, так есть, и так будет всегда. Ладно, что в такой посредственной
деятельности, как политика, это проявляется, но и литераторы сегодня
не далеко от них ушли, и философы, защищают докторские диссертации,
для того чтобы, как клоуны, смешить по телевидению публику: философский
факультет МГУ, оказывается, готовит таких философов, у которых
должен быть хорошо подвешен язык, чтобы им можно было болтать
в разные стороны, как маленьким флажком на футболе. Вот, ведь,
дилемма, вроде бы, неразрешимая вовсе, если воспринимать её с
объективной точки зрения, а если – с субъективной, то тоже ничего
особенного нет: что поделаешь, если люди в основе своей мертводушные…
нетерпимые… какие-то нелюди, как говорят на Дону. Собственно,
и этому есть своё обоснование. Слишком заметен контраст, как тогда,
так и сейчас, между богатыми и бедными. Роскошь, беспредельная
и оголтелая роскошь, соседствует с жесточайшей нуждой, и в этой
полярности от «+» к «-», и наоборот, происходит движение инстинкта,
который согласно вышеупомянутому физическому закону, начинает
набирать массу. То есть, между двумя отжившими и летаргическими
пластами бытия – нищетой и довольством – во всем своём многообразии
проявляются самые не умопостигаемые явления, которым трудно давать
какие-либо определения. Хотя и видна избирательность в творениях
природы, которая сотворяет нечто лишним, а нечто полезным: она
как бы готовит для себя будущее, чтобы быть в безопасности и жить
вечно. Если человеческое существо не заботится о завтрашнем дне,
то природа, напротив, только о нём и заботится, именно, поэтому
всегда и всё происходит не так, как человечку бы хотелось. С другой
стороны, природа готовит завтрашний свой день в метафизическом
духе, в своей основе, тогда как, например, Плюшкин, заботится,
как раз-таки в обратном смысле, в материальном эквиваленте. Следовательно,
предопределено ему заботиться так, и заботится он для другого,
но этого ему не понять – у него сознание солипсично. Ему хоть
кол на голове теши – никакого толка от этого не будет.
V. Заключение
Из «Театрального разъезда»: «Но боже! Сколько проходит ежедневно
людей, для которых нет вовсе высокого в мире! Все, что ни творилось,
вдохновеньем, для них пустяки и побасенки; создания Шекспира для
них побасенки; святые движения души – для них побасенки. Нет,
не оскорбленное мелочное самолюбье писателя заставляет меня сказать
это, не потому что мои незрелые, слабые созданья были сейчас названы
побасенками, – нет, я вижу свои пороки и вижу, что достоин упреков;
но не могла выносить равнодушно душа моя, когда совершеннейшие
творения честились именами пустяков и побасенок! Ныла душа моя,
когда я видел, как много тут же, среди самой жизни, безответных,
мертвых обитателей, страшных недвижным холодом души своей и бесплодной
пустыней сердца; ныла душа моя, когда на бесчувственных их лицах
не вздрагивал даже ни призрак выражения от того, что повергало
в небесные слезы глубоко любящую душу, и не коснел язык их произнести
своё вечное слово «побасенки!» Побасенки!.. А вот протекли веки,
города и народы снеслись и исчезли с лица земли, как дым унеслось
все, что было, а побасенки живут и повторяются поныне, и внемлют
им мудрые цари, глубокие правители, прекрасный старец и полный
благородного стремления юноша. Побасенки!.. А вон стонут балконы
и перилы театров: все потряслось снизу доверху, превратясь в одно
чувство, в один миг, в одного человека, все люди встретились,
как братья, в одном душевном движеньи, и гремит дружным рукоплесканьем
благородный гимн тому, которого уже пятьсот лет как нет на свете.
Слышат ли это в могиле истлевшие кости? Отзывается ли душа его,
терпевшая суровое горе жизни? Побасенки!.. Но мир задремал бы
без таких побасенок, обмелела бы жизнь, плесенью, и тиной покрылись
бы души».
Гоголь – это наше всё. Это планета, до которой за прошедшие полтора
века после его смерти так ещё никто и не поднялся. Вернее сказать,
душа его, ноющая и истерзанная, поднялась на совершенно недосягаемую
высоту. «Если вы бичуете свою душу, – говорил Сартр, – все души
возопят». Именно это и делал Гоголь, и именно поэтому наши души
вопят вместе с его душою; глубина которой – вечна и бесконечна.
Всё, что создано нашей литературой, всё это создано, благодаря
ему. Даже Достоевский стоит гораздо ниже Гоголя, ибо последний
писал с точки зрения огромной любви к человеку; особенно, к человеку
маленькому. Сострадание так и плещет во все стороны во всех его
произведениях любовью к ближнему. В сущности, великий русский
пессимист смог сделать главное: возлюбить пороки ближнего своего.
Единственное лекарство для пессимиста, о котором говорил Ницше
в «Весёлой науке»:
«Мой друг, чтоб мир переварить Во всех его опасных блюдах, Решись, ты должен вмиг и чудом Одну лишь жабу проглотить».
6 апреля 2006 г.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

