РУССКИЙ КРИТИК 1. Толстой Басинского
Я давно заметил, что решающей особенностью практически всякого
современного человека является то, каким именно образом он не
только ухитряется делать вид, что он обычный человек, но и
удерживаться, пребывать в этом делании себя обычным.
Однако, как бы он ни старался прикидываться обычным человеком, его
гений, живущий в нём и, собственно, им являющийся, не может
не проявляться.
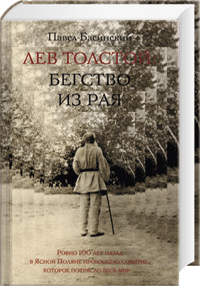 |
Почему человек, насколько хватает у него сил и таланта, держится за
свою обычность и, опять же, насколько у него хватает сил и
таланта, игнорирует свой гений?
Ответ прост, как вопрос: по причине выживания.
Человек действует в соответствии с уже отложенным в нём опытом,
который говорит ему, что выживает обычный человек, а жизнь гения
– слишком непредсказуема, слишком ответственна, слишком не
прагматична.
Поэтому он игнорирует свою гениальность, чтобы жить своей обычностью.
Поэтому он живёт двойственной, раздвоенной жизнью.
Он ПРЕДПОЧИТАЕТ быть обычным, чтобы не быть гением. При этом он
думает, что экономит силы, не замечая, что на то, чтобы жить
обычной, «как все» жизнью, будучи гением, требуется, как
минимум, не меньше сил, чем на то, чтобы жить своим гением, или
просто гением, или, ещё точнее, просто жить.
Человек полагает, что жить просто (на самом деле – сложно,
двойственно) – более прагматично, чем жить сложно (на самом деле –
просто), потому что представляет себе свою жизнь простой, а
жизнь гения – сложной.
На самом деле на формирование и поддерживание двойной, двойственной,
расщеплённой, фрагментированной жизни нужно гораздо больше
жизненных сил, чем на просто жизнь, одну, цельную,
единственную, целостную… но уж как-то больно рискованно, как-то
боязно, ведь всё придётся делать самому (как будто и так не
придётся всё делать самому).
Вот и Басинский в своей книге «Лев Толстой: бегство из рая»
прикидывается обычным человеком, отчаянно пряча от себя свой
собственный гений.
Трусит, храбрится, и тем больше храбрится, чем больше трусит, но всё
равно прикидывается.
Итак, глава первая и решающая: уход или бегство?
Решающая потому, что в этой главе он формирует своё видение факта
ухода Толстого как бегства и внушает нам восприятие этого
действия как поступка слабого, испуганного, больного старика.
Впрочем, перед первой главой есть ещё эпиграф, в котором, как в
матрице, выразился весь запал Басинского, а именно:
В качестве эпиграфа к своей книге Басинский использует выдержку из
письма Толстого к Черткову:
«Все мы храбримся друг перед другом и забываем, что все мы, если мы
только не любим, – жалки, прежалки. Но мы так храбримся и
прикидываемся злыми и самоуверенными, что сами попадаемся на
это и принимаем больных цыплят за страшных львов».
Что имеет в виду Толстой вполне понятно: поскольку единственное, что
есть в человеке или дано каждому человеку – это любовь, то
игнорирование живущей в нём любви человек вынужден
компенсировать тем, что прикидывается злым и самоуверенным, то есть
таким человеком, в котором нет любви.
Человек прикидывается злым и самоуверенным, он компенсирует себя
тем, что воспринимает самого себя и ПОДОБНЫХ прикидывающихся
злыми и самоуверенными в качестве страшных львов.
Человек любящий воспринимает себя и других жалкими, прежалкими
больными цыплятами; почему? потому что он не может не видеть, как
МАЛО в нём и в других любви. На это очень ясно и подробно
указывал Гоголь в «Избранных местах из переписки с друзьями»,
много этого и в дневниках, произведениях и поступках
Толстого.
Гений Басинского, или Басинский как гений очень точно выбирает это
рассуждение Толстого как решающее для понимания того, на что
должен прежде всего обратить внимание Басинский, чтобы
разобраться …с самим собой! То есть Басинский говорит сам себе:
не игнорируй любовь, которая в тебе, пусть её очень мало, но
она есть.
И что делает Басинский? На 600-ста страницах старается УБЕЖАТЬ от
своей собственной любви, какой бы ничтожной или великой она ни
была, от своей жалкости-прежалкости, от себя как больного
цыплёнка, он хитрит сам с собой, обманывает, выворачивается
наизнанку, подтасовывает, не замечает очевидного и отмечает
предполагаемое и т.д., и т.д.
Зачем?
Только бы не быть просто собой!
Убегая от самого себя, он заставляет бегать Толстого!
Послушаем:
«…ночью, тайно [Басинский не уточняет, что тайно только от жены, но
такое уточнение ещё раз заставило бы его обратить внимание
на то, почему именно от жены? а это как раз он от себя
старается как можно тщательнее скрыть] бежал из своего дома в
неизвестном направлении».
«…82-летнего старца, единственным желанием которого было убежать,
скрыться, стать невидимым для мира [снова преувеличение – «для
мира»]».
«…обстоятельства исчезновения Толстого из Ясной, действительно, куда
больше напоминают бегство, чем величественный уход».
«Как бы он ни готовился к этому уходу, понятно, что ни душевно, ни
физически он не был к нему готов».
«И если в момент ухода его грела какая-то мысль, то вот эта:
знаменитый человек, исчезая, растворяется в людском пространстве,
становится одним из малых сих, незаметным для всех [читай:
для меня (Басинского) лучше согреваться самой глупой и
невыполнимой мыслью, чем смотреть правде в глаза]».
«…этот старик тайно ночью совершает поступок, страшнее которого для
его жены быть не может».
«Поэтому самым сильным чувством, которое испытывал Толстой, был
страх [Басинский имеет в виду страх ссоры, раздора, скандала,
который для Басинского – самый сильный; чего «боялся» Толстой
очень скоро выясним]».
«Да, уход Толстого был проявлением не только силы, но и слабости
[силы в том смысле, что на что-то решился, слабости – что
изменил своим принципам!]». И т.д.
Вывод автора:
«Это был поступок слабого больного старика, который мечтал об уходе
25 лет, но, пока были силы, не позволял себе этого, потому
что считал это жестоким по отношению к жене. А вот когда сил
уже не оставалось, а семейные противоречия достигли высшей
точки кипения, он не увидел другого выхода».
И отношение, нет, не отношение, а суд автора:
«И те, кто представляют себе нравственный облик позднего Толстого,
хорошо понимают, что нравственного оправдания ухода для него
не было никакого, с его точки зрения, [тут, видимо,
пропущено «необходимо»] было нести свой крест до конца, а уход был
освобождением от креста».
Про крест мы ещё поговорим, пока продолжим слушать приговор Басинского:
«Все разговоры о том, что Толстой ушёл, чтобы умереть, чтобы слиться
с народом, чтобы освободить бессмертную душу, справедливы
для его 25-летней мечты, но не для конкретной нравственной
практики. Эта практика исключала эгоистическое следование
мечте в ущерб живым людям».
И, наконец, апофеоз главы и мысли автора:
«Только сопоставляя разные документы, можно найти «точку
пересечения» и допустить, что здесь находится истина. Но при этом надо
помнить, что этой истины не знал и сам Толстой».
То есть Толстой не знал, почему он делал то, что делал!
Читатель, я думаю, уже догадался, что гений автора или автор как
целостный человек знает, «что истина находится здесь», но ему –
как прикидывающемуся и храбрящемуся – нужно скрыть истину,
прежде всего – от самого себя, а потом уже от читателя (если
эта книга написана искренним человеком, если же это
расчётливый проект – то просто скрыть от читателя), а для этого
необходимо не открыться самому себе и сказать: я истину знаю,
но она мне не нравится, а хитрить Толстым, манипулировать
образом Толстого, поменять ему общественную маску.
Жалкий-прежалкий больной цыплёнок (Басинский) отчаянно прикидывается
злым и самоуверенным страшным львом, для чего ему нужно
всеми возможными средствами превратить такого же цыплёнка (Льва
Толстого) сначала в страшного льва, а потом «разоблачить»
его, показать, что на самом деле он (Лев Толстой)
прикидывается львом, будучи цыплёнком.
Именно поэтому Басинский не приводит в первой – решающей и
определяющей главе своей книги запись Толстого в дневнике, отмечающую
обстоятельства и причину его ухода:
«28 октября 1910 г. Лег в половине 12 и спал до 3-го часа. Проснулся
и опять, как прежние ночи, услыхал отворяние дверей и шаги.
В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и
вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это Софья
Андреевна что-то разыскивает, вероятно, читает… Опять шаги,
осторожное отпирание двери, и она проходит. Не знаю отчего,
это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел
заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел.
Отворяет дверь и входит Софья Андреевна, спрашивая «о
здоровье» и удивляясь на свет у меня, который она видит у меня.
Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс: 97.
Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать.
Пишу ей письмо, начинаю укладывать самое нужное, только бы
уехать. Бужу Душана, потом Сашу, они помогают мне
укладываться. Я дрожу при мысли, что она услышит, выйдет – сцена,
истерика и уж впредь без сцены не уехать. В 6-м часу всё кое-как
уложено; я иду на конюшню велеть закладывать… Может быть,
ошибаюсь, оправдывая себя, но кажется, что я спасал себя, не
Льва Николаевича, а спасал то, что иногда и хоть чуть-чуть
есть во мне».
То есть Толстой спасал любовь – единственное, что есть у человека.
Толстой не уходит до тех пор, пока в нём остаётся хоть капля живой
любви; как только он всем собой понимает и чувствует, что в
нём осталась ОДНА, ПОСЛЕДНЯЯ капля этой любви и этой жизни,
он уходит, ни секундой раньше.
Уходит ради любви.
Сохранение любви – долг каждого.
«Не делаю этого [уход] преимущественно потому, что это для себя, для
того, чтобы избавиться от отравленной со всех сторон жизни.
А я верю, что это-то перенесение этой жизни и нужно мне».
«Одно могу сказать, что причины, удерживающие меня от той перемены
жизни, которую Вы мне советуете и отсутствие которой
составляет для меня мучение, что причины, препятствующие этой
перемене, вытекают из тех самых основ любви, во имя которых эта
перемена желательна и Вам и мне».
«То, что Вы мне советуете сделать, составляет заветную мечту мою, но
до сих пор сделать этого не мог. Много для этого причин (но
никак не та, чтобы я жалел себя); главная же та, что
сделать это надо никак не для того, чтобы подействовать на других.
Это не в нашей власти, и не это должно руководить нашей
деятельностью. Сделать это можно только и должно только тогда,
когда это будет необходимо не для предполагаемых внешних
целей, а для удовлетворения внутреннего требования духа, когда
оставаться в прежнем положении станет так же нравственно
невозможно, как физически невозможно не кашлять, когда нет
дыханья».
Другой на его месте ушёл бы 25 лет назад, но не Толстой, потому
истинное смирение Толстого – быть последним, самым маленьким,
больным цыплёнком, никем не прикидываться.
Быть цыплёнком, но – быть!
Любовь заставляла его не уходить, когда нравственно невозможно было
покидать жену.
Любовь заставила его уйти, когда нравственно невозможно было оставаться с женой.
Оставаться Толстому было невозможно именно по нравственной причине,
уйти было необходимо, в тот момент, когда он стал терять
последнее, что ещё жило в нём.
И он ушёл со свойственной ему решительностью, несмотря на ясное
осознание причинения боли своей жене, но не беря на себя вины за
это причинение.
Такой уход не производит никакой вины.
Ни вины его жены:
«То, что я ушёл от тебя, не доказывает того, чтобы я был недоволен
тобой. Я знаю, что ты не могла, буквально не могла и не
можешь видеть и чувствовать, как я, и потому не могла и не можешь
изменить свою жизнь и приносить жертвы ради того, чего не
сознаешь».
Ни его собственной вины:
«Я не могу думать, что я виноват, потому что знаю, что изменился я
не для себя, не для людей, а потому, что не могу иначе. Не
могу и тебя обвинять, что ты не пошла за мной, а благодарю и с
любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне.
Прощай, дорогая Соня. Любящий тебя Лев Толстой».
Басинский, обвинив Толстого в «эгоистическом следовании мечте в
ущерб живым людям», а также в «страхе» и «слабости», добавляет:
Толстой «…не вернулся, а бежал все дальше и дальше, подгоняя своих
спутников. И это его поведение – главная загадка».
Для постоянно прикидывающегося и хитрящего, в том числе и для
Басинского, всё на свете – загадка, даже вещи очевидные.
Обстоятельства и причины ухода Толстого вполне подробно и точно
описала дочь Толстого Сухотина-Толстая, которая в своих
«Воспоминаниях» назвала эти причины «отдалёнными», проявляя тем самым
хороший такт.
Она, как человек вежливый, оставляет всегда тому, о ком она говорит,
некоторый дополнительный карт-бланш на возможность большей
глубины, на возможность более насыщенного континуума смысла,
полагая, что может не видеть ВСЕГО содержания описываемого
поступка. К этой глубине и насыщенности ухода Толстого я ещё
вернусь, здесь ограничусь её восприятием причины ухода
отца:
«…отец хотел спасти в себе то «нечто», следы которого он в себе
порою ощущал, и спасти ценой своей жизни».
В завершении рассмотрения первой главы отмечу одно замечание Басинского:
«Жена писателя прекрасно понимала, что реноме мужа и ее собственное
реноме, волей-неволей, складывается из газетных публикаций».
Вот оно наследие советского времени, когда реноме человека
определялось в кремлёвских кабинетах и потом «складывалось» в
газетных публикациях.
Ни к Толстому, ни, например, к Гоголю, да в принципе ни к одному
человеку, в том числе и советскому, это «прекрасное понимание»
складывания реноме не относится.
Просто Басинскому ХОЧЕТСЯ, чтобы именно так и было, тогда как весь
описываемый им материал говорит о том, что реноме человека
складывается из поступков этого человека.
Здесь я специально не рассматриваю ещё одно характерное замечание
Басинского, а именно: замечание о Толстом как барине, потому
что нам ещё предстоит внимательно и подробно наблюдать за
тем, как Басинский вообще понимает русскую культуру.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

