Демократия демоса и демократия личности (8)
(соображения и воображения)
6. ДЕМОКРАТИЯ ДЕМОСА И АНАРХИЗМ.
У Н.А.Бердяева имеется любопытная зарисовка: «Анархизм есть главным образом создание русских. Интересно, что анархическая идеология была по преимуществу создана высшим слоем русского дворянства. Таков главный и самый крайний анархист Бакунин, таков князь Кропоткин и религиозный анархист граф Л.Толстой. Тема о власти и об оправданности государства очень русская тема» и продолжает: «…в славянофильской идеологии был сильный анархический элемент. Славянофилы не любили государства и власть, они видели зло во всякой власти. Очень русской была у них та идея, что складу души русского народа чужд культ власти и славы, которая достигается государственным могуществом». Как видно, Бердяев, полагая анархизм производным русской мысли, видел в нём только деструктивную суть и в таком отрицательном качестве увязывает анархизм с русским духостоянием, какое взошло на базе специфического русского народничества. В данном понимании между русским анархизмом и демократией демоса ничего нет общего, если не считать противостояния, какое трассируется в виде одной из границ раздела между Западом и Востоком, Европой и Россией, и эту границу можно назвать фаустовской. Бердяев уверенно пишет о М.А.Бакунине: «Как и все русские анархисты, он – противник демократии. Он совершенно отрицательно относился ко всеобщему избирательному праву. По его мнению, правительственный деспотизм наиболее силён, когда опирается на мнимое представительство народа»(2001,с.с.614,616,619).
Однако, как всё, что имеет отношение к анархизму, искажено и извращено, теоретически или практически, так бытующее мнение о М.А.Бакунине, в том числе и Н.А.Бердяева, далеко от истинного. В действительности Бакунина нельзя называть «противником демократии», а напротив, – его следует числить в предтечах философского освоения демократии, но только не фаустовской демократии демоса, а архетипического инстинкта совмещения и общения человеков. Своё эксплицитное ощущение последнего Бакунин очень неудачно называет «демократической партией», но зато вскрывает её новаторское содержание, утверждая, что «когда она убедится в том, что демократия заключается не только в оппозиции властям предержащим, не только в каком-то особом конституционном или политико-экономическом преобразовании, но знаменует полный переворот всего мирового уклада и предвозвещает ещё небывалую в истории, совершенно новую жизнь, лишь когда из всего этого она поймёт, что демократия есть религия, и, уразумев это, сама станет религиозною, т.е.проникнутою своим принципом не только в мышлении и в суждениях, но и преданною ему в действительной жизни, в мельчайших её проявлениях, только тогда демократическая партия действительно победит весь мир». Таким образом, Бакунин ставит вопрос о возможности «переворота всего мирового уклада», то есть о наличии некоего «небывалого в истории» антипода демократии демоса. Только уже такой постановкой вопроса Бакунин достоин признательности, но русский мыслитель идёт далее, и проникает в сущность этого виртуального явления, то есть взглядом из настоящего зрит будущее.
Проницательность философского дарования Бакунина заключена в том, что признаки этого будущего, и объективные признаки, обнаруживаются им в настоящей реальности демократии демоса. С этой позиции он говорит о «…несовершенстве демократической партии, которая ещё не пришла к твёрдому осознанию своего принципа и потому существует только как отрицание настоящего положения вещей. В качестве такового, в качестве только отрицания она прежде всего непременно стоит вне всей полноты жизни, – полноты, которую она ещё не может развить из своего принципа, понимаемого ею почти исключительно в отрицательном смысле. Но потому-то она и является до сих пор только партией, а вовсе не живою действительностью – будущим, а не настоящим. …По своему существу, по своему принципу демократическая партия есть всеобщее, всеобъемлющее, но по своему существованию в качестве партии она представляет некую обособленность – отрицательное, которому противостоит другая обособленность – положительное. Всё значение и вся непреодолимая сила отрицательного состоят в разрушении положительного; но, вместе с положительным, оно осуждает на гибель и себя, как несовершенное, обособленное и не соответствующее своей сущности бытие. Демократизм наличествует ещё не таким, каков он есть сам по себе, в своей утвердительной полноте, а лишь как отрицание положительного, и потому он в этой несовершенной форме должен погибнуть вместе с положительным, чтобы затем из своего свободного основания воспрянуть в возрождённом виде, как живая полнота самого себя» (2000,с.с.107-108,108,108-109). Таковы первые предродовые схватки демократии личности.
Итак, Бакунин, ведя рассуждения в философской плоскости, говорит уже не о возможности, а о необходимости антипода демократии демоса, антипода, данного как «отрицания настоящего положения вещей» и для предмета своего познания, который Бакунин называет «демократизмом», открывается новое качество: отношение отрицательное – положительное, будущее – настоящее. В данном противоположении осуществляется объективация кризиса демократии демоса, – такова мысль Бакунина, облачённая, однако, в другой словарно-терминологический фонд. Но, если для демократизма, взятого как объект познания, положение о противоположностях выглядит новацией, то в большой философии институт противоположностей есть не новацией, а ключевым моментом каждой философской системы, и свою генеалогию данный институт ведёт от Аристотеля, создавшего великий закон противоречия, которым был укоренён в человеческий разум принцип «или-или». Бакунин по-своему раскрыл эту философему, приспосабливая её к конкретному состоянию выявленного отношения и придя в итоге к традиционной дилемме, нормально существующей в академической философии. Бакунин пишет: «Противоположение действительно есть истина; но оно существует не как таковое, оно наличествует не как эта цельность, оно есть лишь сама по себе сущая, скрытая цельность, а его существование есть именно противоречащее себе раздвоение обоих его членов – положительного и отрицательного. Противоположение как целостная истина есть неразрывное единство простоты и самораздвоения в одном; это его сама по себе существующая, скрытая, а вместе с тем его ближайшим образом непостижимая природа, и именно потому, что единство это – скрытое, противоположение тоже существует односторонне, лишь как раздвоение его на члены; оно наличествует лишь как положительное и отрицательное, а эти последние столь решительно взаимно исключают друг друга, что это их взаимоисключение и определяет целиком их природу. Но как же тогда постигнуть цельность противоположения?» (2000,с.118).
Это вопрошание само по себе есть свидетельство зрелости философской системы, так сказать, определённый уровень глубокомыслия автора. Ибо эмпирическое выведение натуральных противоположностей необходимая, но далеко не достаточная стадия философского исследования, и более того, – собственно философский подход начинается с попытки определения членов двойственного отношения в их взаимном действии друг на друга. Поэтому Бакунин в своём вопрошании высказывает отнюдь не персональное недоумение, а общефилософскую апорию: взаимодействие противоположностей или двух крайностей лишено в классической философии необходимой конкретики и представление о нём погружено в пучину наибольших отвлечённостей и смысловых неопределённостей; ещё в античной древности Аристотелю было известно: «ведь противоположности не могут испытывать воздействия друг от друга»(1975,т.1,с.317). Наиболее распространённым, и даже узаконенным, способом решения данной апории принят эклектический метод сочленения двух противоположностей, подкреплённый знаменитым диалектическим законом Г.Гегеля «отрицания отрицания». Бакунин решительно отмежёвывается от этой соглашательской позиции, то есть от единственного апробированного средства решения, и высказывает свою точку зрения, являющуюся в таком свете достижением не только в анархическом учении, но и для философии в целом.
Бакунин постигает: «Положительное представляется на первый взгляд покоящимся, неподвижным; оно ведь только потому и является положительным, что оно без помехи покоится в себе и не содержит в себе ничего могущего его отрицать, только потому, что внутри его самого нет никакого движения, ибо всякое движение есть отрицание. Ведь положительное именно и есть нечто такое, в чём заложена неподвижность как таковая: нечто мыслимое само по себе как абсолютная неподвижность. Но мысль о неподвижности неотделима от мысли о движении, или, вернее, обе они суть одна и та же мысль. Итак, положительное, абсолютный покой, является положительным лишь по отношению к отрицательному, абсолютному непокою. Положительное внутри самого себя связано с отрицательным, как со своим собственным живым определением. Таким образом, положительное занимает двоякую позицию по отношению к отрицательному: с одной стороны, оно покоится в самом себе и в этом апатическом, самодовлеющем покое ничего в себе от отрицательного начала не имеет; но, с другой стороны, именно благодаря этой неподвижности оно, как нечто в самом себе противоположное отрицательному, деятельно исключает из себя отрицательное; но эта деятельность исключения есть некое движение. А потому положительное, как раз благодаря своей положительности, становится само в себе не положительным, а отрицательным: исключая из себя отрицательное, оно исключает себя из самого себя и само осуждает себя на гибель. Следовательно, положительное и отрицательное не равноправны, как это думают соглашатели; противоположение есть не равновесие, а перевес отрицательного, которое составляет преобладающий момент противоположения. Отрицательное, как определяющее жизнь самого положительного, содержит в себе одном цельность противоположения, а потому является наделённым абсолютным правом». (2000,с.119).
Следовательно, Бакунин излагает некую особую методику познания, которая не подпадает ни под догматизм аристотелевского принципа «или-или», ни под эклектику гегелевской диалектики: отрицательное отрицает, не отрицая, а положительное утверждает, не утверждая; отрицательное и положительное не могут быть равноправны в такой динамике, ибо они взаимно проникают друг друга. Показательно, что в своей рефлексии отрицательного начала в противоположении, Бакунин даже не упоминает о гегелевском законе «отрицания отрицания», давая тем понять о нетривиальной природе своего постижения. Зато это последнее идейно и идеологически смыкается с тем типом познания, какое исповедуется в русской духовной философии в лице учений о непостижимом С.Л.Франка и о Софии отца С.Н.Булгакова (о чём речь пойдёт в дальнейшем) и какое выступает концептуальным отличием русской духовной школы перед западной. В этом постижении содержится наибольшая заслуга ноуменальной деятельности М.А.Бакунина и есть наивысший взлёт его творческого потенциала, на котором замечательный русский мыслитель, однако, не удержался.
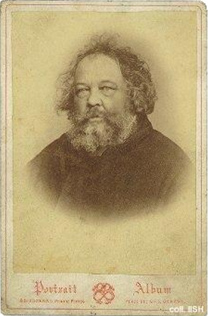
Михаил Бакунин
К русской духовной элите М.А.Бакунин принадлежал как мыслитель, а, как общественный деятель, он обитал и общался в интеллектуальной европейской среде с его идеалом рационального мышления, где практические принципы повсеместно довлеют над отвлечённым теоретизированием. В силу этого своё интуитивное предощущение, имеющее себя как демократическая идея, он называет политическим термином «партия» и провозглашает: «как партия мы заняты исключительно политикой». И этим сказано если не всё, то многое. В политике действенны только реально-конечные величины, обладающие, во-первых, самостоятельной определённостью, а, во-вторых, имеющие свою оппозицию или ту противоположность, какая даёт возможность существовать в реальном режиме по схеме «или-или». Такова динамика демократии демоса и такова практическая методология анархического учения Бакунина, с той лишь особенностью, что собственное «или» Бакунин избирает в лице отрицательного, враждебно противостоящего положительному, какое в натуре есть демократия демоса. В угоду политическим интересам Бакунин отступает от своих философских откровений, а замечательное открытие о взаимопроникновении противоположностей и о том, что «положительное и отрицательное не равноправны», трактует как борцовское преимущество отрицательного.
Бакунин проповедует: «Положительное отрицается отрицательным, и, наоборот, отрицательное отрицается положительным – что же в обоих общее, превосходящее, превосходящее их обоих? Отрицание, осуждение на гибель, страстное уничтожение положительного, даже если последнее пытается хитро укрыться под личиною отрицательного. Только в качестве такого безоглядного отрицания отрицание оправданно, и как таковое абсолютно оправданно, ибо в качестве такового оно является деянием практического духа, незримо присутствующего в самом деле противоположении, – духа, который с помощью этой разрушительной бури властно зовёт к покаянию грешные души соглашателей и возвещает своё близкое пришествие, своё близкое откровение в истинно демократической и всемирно-человеческой церкви свободы» (2000,с.120-121).
Если в теоретической части Бакунин как бы сознательно обходит проповеди Г.Гегеля, то в своём «практическом духе» он принимает Гегеля как аргумент самостоятельной конечности отрицательного. Обращаясь к своим оппонентам по этой части, Бакунин говорит: «…если вы хотите цитировать мне Гегеля, то цитируйте его полностью. Тогда вы увидите, что отрицание остаётся условием жизни данного организма лишь до тех пор, пока оно находится в нём, как определённый момент в его цельности, но что в известном пункте постепенное действие отрицания внезапно прекращается, так что последнее превращается в самостоятельный принцип…». Этот «самостоятельный принцип», вроде бы с благословения Гегеля, под лучами неординарной мыслительной натуры Бакунина приобретает философское выражение, став постоянным объектом критики бакунинского анархизма: «Дайте же нам довериться вечному духу, который только потому разрушает и уничтожает, что он есть неисчерпаемый и вечно созидающий источник всякой жизни. Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть!» (2000,с.с.125,130; выделено мною – Г.Г.).
Итак, бакунинская анархическая кантата ценна в историческом ракурсе как исторический урок, преподавший несостоятельность разрушения, отрицания, в целом деструктивного начала, в качестве самоличного творческого ресурса. Деструктивный элемент может быть только кратковременным конформистским моментом конструктивного целого, а к самому процессу творчества не может иметь созидательного отношения. А рациональное зерно широкомыслия Бакунина таится как раз в иррациональном ядре демократической идеи, просигналившего о возможности нового типа познания человеческого духа, само собой ассоциировавшегося с новым типом государственного устройства людских сообществ в будущем. Сам автор отказался от подобной потенции своего глубокомыслия, но негативная историческая оценка того, к чему склонился Бакунин, опосредованно свидетельствует в пользу блестящего достижения русского мыслителя, но не европейского деятеля.
Объявляя анархизм продуктом русского духа, Бердяев, хотя и не набирает достаточного исторического обоснования, но прав по существу, если в существо явления положить философско-теоретическую сторону. Наряду с М.А.Бакуниным русская духовная школа воспитала монументальную персону князя П.А.Кропоткина, который единственный показал, «что именно нужно подразумевать под философией анархизма». Историософская и философская аналитика, по настоящее время не избавившаяся от вопиющего предрассудка по отношению к истинному, а не фальсифицированному, анархическому течению, не заметила, что именно русские идеологи анархизма досконально и страстно обличили европейскую государственность демократии в наличии признаков, которые воспринимаются не иначе, как атрофическое вырождение и деградация благородных принципов эллинского учения.
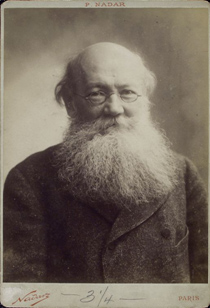
Князь Пётр Кропоткин
Князь П.А.Кропоткин вообще исключает слово «государство» из греческого лексикона, а смысл, который греческие мудрецы вкладывают в «государство», оставляет за термином «общество», и потому отождествление и синонимирование «государства» и «общества» числит грубой ошибкой. Кропоткин разъясняет: «А между тем такое смешение двух совершенно разных понятий, – «государство» и «общество», идёт вразрез со всеми приобретениями, сделанными в области истории в течение последних тридцати лет: в нём забывается, что люди жили обществами многие тысячи лет, прежде чем создали государства, и что среди современных европейских народностей государство есть явление самого недавнего происхождения, развившееся лишь с шестнадцатого столетия, причём самыми блестящими эпохами в жизни человечества были именно те, когда местные вольности и местная жизнь не были задавлены государством и когда массы людей жили в общинах и в вольных городах. Государство есть лишь одна из тех форм, которые общество принимало в течение своей истории» (1999,с.618). В анархизме, поданном как историческое исследование, была открыта качественно новая государственная форма людского общежития, наличествующая, да и пригодная только для европейского поселения.
В этом повороте постигающей мысли русского князя, очевидно, видится аналогия, а на самом деле, независимое подтверждение исследования Шпенглера о возникновении фаустовского мира. Аналогия, однако, исчерпывается только общим выводом, что в недрах Западной Европы зародилась форма правления, соответственная исключительно местным условиям, но и этот вывод как таковой, как некое историческое свершение, обладает самостоятельной значимостью. В отличие от Шпенглера Кропоткин предпосылает этому явлению особую стадию коллективного обитания жителей Западной Европы – стадию средневековой общины, развившейся в средневековых «вольных» городах. Здесь, так же в отличие от Шпенглера, всё проблематично: от хронологических дат до эминентно-восторженной оценки самой стадии, – как пишет Кропоткин: «Под защитой своих вольностей, выросших на почве свободного соглашения и свободного почина, в этих городах возникла и развилась новая цивилизация с такой быстротой, что ничего подобного этой быстроте в истории не встречается ни раньше, ни позже» (1999,с.641) В свете этой умильности наступление следующей стадии – стадии «государства», разрушившей до основания формацию «вольных» городов, кажется неправдоподобной агрессией внешнего врага. Вместе с тем в суждениях князя имеется момент, исполняющий статус оценочного мерила и обусловивший его упоение устройством средневековых городов и гильдий, который привлекает внимание если не к историческим выводам, то к мировоззренческой позиции Кропоткина. Он указывает: «Это смелое признание прав личности и образование общества путём свободного соединения людей в деревни, города и союзы было решительным отрицанием того духа единства и централизации, которым отличался Древний Рим и которым проникнуты все исторические представления официальной науки». «Признание прав личности» есть тот новый мотив и новый стимул, каких лишено постижение Шпенглера и какие находятся в истоках философии анархизма, по Кропоткину. Обладая личностной мотивацией, Кропоткин в противовес Шпенглеру смог в новом государственном сообществе населения Западной Европы, которое он классифицирует как «стадия государства», увидеть не что иное, как кризисные акции демократии демоса. Русский князь повествует: «В шестнадцатом веке явились новые, современные варвары и разрушили всю эту цивилизацию средневековых вольных городов… Они сковали по рукам и ногам личность, отняли у неё все вольности; они потребовали, чтобы люди забыли свои союзы, строившиеся на свободном почине и свободном соглашении, подчинились во всём единому повелителю. Все непосредственные связи между людьми были разрушены на том основании, что только государству и церкви должно принадлежать право объединять людей, что только они призваны ведать промышленные, торговые, правовые, художественные, общественные и личные интересы, ради которых люди двенадцатого века обыкновенно соединялись между собой непосредственно. И кто же были эти варвары? Не кто иной, как государство – вновь возникший тройственный союз между военным вождём, судьёй (наследником римских традиций) и священником, тремя силами, соединившимися ради взаимного обеспечения своего господства и образовавшими единую власть, которая стала повелевать обществом и, в конце концов, раздавила его» (1999,с.с.633,643,644).
Итак, власть и государство ставятся первейшими и злейшими врагами анархического воззрения, а это значит, что анархизм решительно нацелен против тех факторов, которые обусловили кризис демократии демоса, и, следовательно, анархизм потенциально содержит в себе силу, способную создать антитезис демократии демоса. В этом состоит идея «демократической партии» Бакунина, которая не была задействована автором, и которая разворачивается князем Кропоткиным в философию анархизма. Что такое представляет собой анархия?
Этимология термина «анархия» греческого происхождения и состоит из отрицательной частицы «ан» и «архия», производного от «архе», что означает «первичное», взятое в качестве непреложного требования или принуждения. Итак, анархия предназначается для отвержения всякого принуждения, а потому она непоколебимо отрицает законы, власть и государство как воплощённое гигантское принуждение и насилие над личностью человека. Категорический императив анархизма звучит в словах князя Кропоткина: «анархист отрицает не только существующие законы, но всякую установленную власть вообще; …анархист, прежде всего, восстаёт против всякой власти, в какой бы форме она не проявлялась». В этом пункте анархизм следует признать не только как антитезу или антипод фаустовского человека, а как принципиального его антагониста. «Беспорядок», в котором единодушно обвиняют анархию, на деле есть отрицание порядка, укоренённого в реальную действительность, то есть отвержение порядка демократии демоса, и в таком качестве анархия видится как сила, нацеленная на разрешение кризиса демократии демоса. И отрицание в анархизме производится отнюдь не риторически и не голословно, а на основе определённого параметра: признание прав личности превращено Кропоткиным в философии анархизма из солирующего мотива в полнозвучную симфонию. Князь восклицает: «Освободите личность, ибо без свободы личности не может быть свободного общества» (1999,с.с.58,176). Свобода личности есть ключевое слово в философии анархизма.Итак, в философии анархизма Кропоткин вывел во главу угла фактор индивидуальной личности или свободу личности: всё, что стесняет, ущемляет, принуждает свободу личности подлежит отвержению и разрушению, а беспорядок и хаос необходимо исходит из ликвидации порядка, которым поддерживается или который способствует и порождает насилие над свободой личности.
В чисто теоретическом плане силлогистика Кропоткина представляет собой, однако, только расширенную и укрупнённую форму идеи Бакунина о «демократической партии» и кропоткинская анархия как антипринуждение переводит бакунинскую идею в идеологию. В этом состоит философская заслуга Кропоткина, но князь на этом не остановился: дабы снабдить анархию понятийной содержательностью, то есть сделать анархию однозначным и определённым понятием, необходимо философскую многозначность и отвлечённость обеспечить реальной выразительностью и конечной формой. Можно сказать по-другому: Кропоткин поставил себе целью превратить абстракцию «отрицательного» Бакунина в действующую конструкцию общежития людей или новую государственность для анархии, понимаемую как реализация свободы личности. Для этого Кропоткин отвергает бакунинский тезис о творческой первичности разрушения: князь выставляет императив – «Но одного разрушения недостаточно. Нужно также уметь и создавать»(1999,с.238).
Кропоткин создал умственный образ будущего общежития людей на анархических началах, который он назвал «коммунизмом». Князь поучает: «Коммунизм представляет собой, таким образом, лучшую основу для развития личности – не того индивидуализма, который толкает людей на борьбу друг с другом и который только и был нам до сих пор известен, – а того, который представляет собою полный расцвет всех способностей человека, высшее развитие всего, что в нём есть оригинального, наибольшую деятельность его ума, чувств и воли. Таков наш идеал, и что нам за дело до того, что во всей своей полноте он осуществится лишь в более или менее отдалённом будущем!» В посылках к данному суждению Кропоткин раскрыл коммунизм как принцип коллективного сообщества: «…коммунизм и не может существовать иначе, как создавая тысячи точек соприкосновения между людьми по поводу их общих дел. Он не может жить иначе, как создавая независимую мысленную жизнь для самых мелких единиц: для каждой улицы, для каждой кучки домов, для каждого квартала, для каждой общины города» (1999,с.с.243,242).
Будучи объединительным принципом реального бытия людей, коммунизм Кропоткина не может синонимироваться с коммунизмом как политическим образованием, типа марксизма-ленинизма, и всё же терминологическая неразборчивость князя внесла немалую путаницу в теорию анархии. Этимологические и генетические истоки своего коммунизма Кропоткин выводит из средневековых коммун и искусственная патетика в отношении к последним, по всей видимости, связана со стремлением иметь чистый первоисточник для коммунизма как онтологии анархической заботы о свободе личности. Содержательная полнота кропоткинского образа свёрнута в его имманентности, в его внутреннем генезисе из жизни коммун и общин средневековой Европы, и в таком виде методологически противостоит объяснению, данному князем краху этой первородной коммунистической вольницы за счёт внезапного налёта «современных варваров». Если идентифицировать фаустовский феномен Шпенглера и «стадию государства» Кропоткина, а отсутствуют серьёзные основания, препятствующие подобному, то Шпенглер, выводя фаустовский мир из внутренней динамики жизни древнегерманских племён, несомненно, более прав, чем Кропоткин с фантастической «варваризацией». Но между двумя великими историками пролегает генеральное отличие: Шпенглер утверждал фаустовскую бытность, а Кропоткин отрицал фаустовскую данность.
Украшением кропоткинской силлогистики служит глубина осмысления коммунизма именно как формы общежития, где данный коллективистский фактор рефлексируется сквозь призму личности. Кропоткин указывает: «Больший же или меньший простор, предоставленный личности в данной форме общежития, – если только она не устроена заранее в подначальной, пирамидальной форме, – определяется теми воззрениями на необходимость личной свободы, которые вносятся людьми в то или другое общественное учреждение». Подобный методологический подход привёл исследователя к своеобразной внутренней природе коммунистического устройства, и он пишет: «Коммунизм может принять все формы, начиная с полной свободы личности и кончая полным порабощением всех…Коммунизм, конечно, может быть начальническим, принудительным, и в этом случае, как показывает опыт, община скоро гибнет, – или же может быть анархическим. Тогда как, например, государство, будь оно основано на крепостном праве или на коллективизме, роковым образом должно быть принудительным. Иначе оно перестаёт быть государством».
Итак, коммунизм у Кропоткина приобретает двойственный характер: одна форма базируется на принуждении и ущемлении свободы личности и другая форма основывается на полной свободе личности, и князь указывает: «Из этих двух форм коммунизма – вольного и подначального – только тот и будет иметь задатки прогресса и жизни, который сделает всё, что возможно, чтобы расширить свободу личности во всех возможных направлениях» (1999,с.с.611,612,613,616). Согласно логике Кропоткина, обе формы коммунизма представляют собой резко антагонистические модели, не могущие сосуществовать в объёме одной государственной конструкции, а потому одна из них, – а именно, «подначальная», принуждающая свободу личности, – предназначена для всеобщего слома, полного разрушения. Принуждающая форма коммунизма, полагая aprioriущемление свободы личности, по определению исполняет функцию, вменённую в обязанность любой реально действующей коллективистской структуре – принижение индивидуального актива, и, таким образом, «начальнический, принудительный» коммунизм Кропоткина есть не что иное, как та же демократия демоса, но имеющая некоторое своеобразие в рамках предикации, применённой русскими идеологами анархизма.
Величайшей заслугой русских теоретиков, прежде всего князя П.А.Кропоткина, служит то, что сугубо духовный параметр – свободу личности – они возвели в доминанту гуманистического мироощущения европейского интеллектуализма. Вне отношения к анархическому воззрению как общественному явлению, гуманистический идеал либеральной Европы немыслим без тезиса о свободе личности, и не случайно в Западной Европе возник столь острый интерес к духовным перлам русской жизни (Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов), которые рассматривались исключительно сквозь призму свободы личности.
Итак, философия анархизма вывела в итоге на две несовмещаемые структуры: «вольную», по Кропоткину, которую в философском плане можно назвать политическим коммунизмом, и «подначальную», по Кропоткину, которую на тех же основаниях можно назвать анархическим (духовным)коммунизмом. Поскольку первая структура (политический коммунизм) относится к компетенции демократии демоса, а потому включается в объём фаустовской действительности, то для характеристики анархической действительности остаётся анархический коммунизм, но и он не может служить реальным выражением формы человеческого обитания. Самое существенное в свободе личности, как основополагающей духовной величине теории и философии анархизма, есть то, что она в своей духовной содержательности рационально необъяснима, то есть не подвержена рациональным критериям, – так, свободы личности не может быть «много» или «мало», свобода личности просто «необходима». «Много» свободы для личности есть nonsens(нелепица), а «мало» свободы также не бывает, ибо оно означает знак ущемления свободы, а вовсе не количественный показатель. Другой существенный признак свободы личности заключён в том, что внутренняя консистенция, её духовная определённость не подвержена влиянию времени, и свобода для человека стала необходимостью тогда, когда человек стал человеком . Это означает, что свобода личности не знает истории, стало быть, свобода личности относится к категории вечности, и потому она никак не может самолично формировать реальную, всегда исторически изменчивую, форму обитания людей.
Следовательно, анархический коммунизм, по Кропоткину, относится всецело к идеальной сфере и не может иметь статус коммунизма, если этот последний знать как форму коллективной организации общежития. В собственно гностическом отношении свобода личности и комплекс сопутствующих духовных компонентов совокупно слагает духовное ядро анархического учения или идею теории, которая лишена в разработках русский теоретиков своего метода, то есть способа или средства внедрения в реальную сферу бытия. Имея в виду, что идея анархизма полностью нацелена на личность, её мотивы, интересы и свободу, несложно вывести умозрительно или предусмотреть метод, дающий качественно новую форму обитания и государственной организации, которую можно назвать демократией личности. Демократия личности, таким образом, познавательно выступает как ключ к решению кризиса демократии демоса и разрешения основного вопроса западной демократии. Наличие признаков демократии личности в недрах анархической теории, выставляемой русскими мыслителями, есть величайший апокриф этой теории, незнаемый самими авторами.
Русские идеологи анархизма (Бакунин и Кропоткин) привнесли в теорию анархии русский элемент – личность, данную в качестве идее ан-архии, но в практической области они использовали в форме метода средство демократии демоса – политику. Противоречие между идеей и методом является роковым заблуждением русских творцов анархического воззрения, и потому ноуменальные самоотрицания слагают общее место в их глубокомыслии. К таким местам относятся придание разрушению творческого пафоса Бакунина, и страстные призывы к революционной борьбе Кропоткина, который, как бы забыв свои клятвы о ценности личности, восклицает: «Что за беда, если единичные личности погибнут в борьбе!»(1999,с.834). Политика, будучи главнейшим средством демократии демоса, в условиях отвержения Бога, а точнее, при исповедании религии человекобожия, привела к девальвации всех нравственных приобретений в европейской истории, а потому не могла не отнестись резко враждебно к такому насыщенному личностным, нравственным, накалом исповеданию, как анархическое воззрение. Политика, став единоличным управителем демократического хозяйства и онтологической гранью демократии демоса, в силу своей нравственной ущербности превратилась, по сути дела, в самого беспощадного рукотворного Молоха, перемалывающего все и всяческие человеческие таланты и способности, – но особо безрадостный посев обнаруживается на русском поле: из числа только наиболее значимых можно назвать Бакунина и Кропоткина, Михайловского и Плеханова, Богданова и Милюкова. Занятие политикой русских творцов анархизма, несомненно, следует отнести к их персональным упущениям, но также несомненно, что этот грех никак не оправдывает чудовищной исторической несправедливости, допущенной по отношению к чудесной анархической идее и её авторам.
Итак, на заключительном этапе анализа кризиса демократии демоса можно определить философскую первооснову последнего через связь европейской концепции человека как идеи с демократией демоса как метода. И данная связь вырисовывается достаточно прозрачно: в концепции человека как члена человечества человек есть средство в коллективистском подряде, а более эффективного способа удовлетворения коллективистских интересов, чем демократия демоса, попросту не существует, и по этой причине демократия стала идеалом гуманитарной Европы, где человек как средство мимикрирует в гражданина демократического государства. В этом, специфическом для европейского общества, гражданском свете обнаруживается некая методологическая аномалия, которая, на первый взгляд, способна сгладить остроту анархических претензий к идее европейской демократии.
Речь идёт о самобытном европейской феномене, одухотворившим онтологический конструкт демократии на начальном этапе её становления, и называемым «общественным договором». Поиск данного договора, который представляет собой гражданскую акцию добровольного уложения некоей «всеобщей воли» (volontegenerale), обязательной для всех членов солидарного множества, и тем самым нейтрализует моменты принуждения (архии), есть сугубо европейская тема, характерная только для европейской истории. Многочисленные средневековые хартии вольных городов, включая знаменитую Великую хартию вольностей, суть акты именно этой истории, а судьбоносная, но для многих эзотерическая, коллизия, рождающаяся в этой среде, и есть диагностическая особенность европейской истории perse, но вовсе не дворцовые и династические перевороты, хронологическая сумятица войн, революций и смут, или мистическая агрессия «современных варваров» Кропоткина. Исторически спонтанно «общественный договор» превратился в становой хребет собственно европейского представления о государстве (прототип демократии демоса), от имени которого Г.Гегель высказал основное полагание: «воля единичных лиц как таковых есть принцип государства; силой притяжения являются частные потребности, склонности отдельных лиц, а всеобщее – само государство – есть внешнее договорное отношение»(1975,т.1,с.240). Уже по этому философскому определению, отдающее единичное под власть всеобщего, ясно, что «общественный договор» есть не столько методологическая аномалия, сколько иллюзорное чаяние, не имеющее под собой идеи, а потому практически непродуктивное и, следственно, исторически вредное.
Концептуальная значимость «договорного» соглашения для европейского представления о государстве и демократии в его специфическом либерально-гуманистическом освещении вызвала эминентное отношение к «Contratsocial» («Общественный договор», 1762) Жана-Жака Руссо, на базе которого по сути дела, формировались революционная идеология и дух ниспровержения в предреволюционном французском обществе. Очевидец французской революции Малле дю Пан засвидетельствовал: «Общественный договор» был Кораном будущих ораторов в 1789г., якобинцев 1790г., республиканцев 1791г., и бешенных самых неистовых», а гений французской революции Максимилиан Робеспьер удостоверил: «Руссо – человек, больше всего способствовавший подготовлению революции». Экзальтированный летописец французской революции Томас Карлейль написал, что «…Жан Жак Руссо, который в своём труде «Общественный договор», ставшем новым Евангелием, доказал, что правительство есть результат сделки, или договора, заключенного ради общего блага, и тем самым решил, наконец, загадку государственной власти. …Вот почему тот факт, что молодое поколение, отвергнув скептицизм отцов с их «Во что я должен верить?», страстно уверовало в Евангелие Жан Жака, представляет собой важный шаг в развитии общества и свидетельствует о многом» (1991,с.44).
Т.Карлейль прав здесь только в том, что фетишизация «Евангелия Жан Жака» свидетельствует «о многом», – и, прежде всего, о пренебрежении историческими корнями и игнорировании историческими уроками европейской истории: суровый актуализм средневековых хартий и гильдий в соглашениях вольных городов ни в какой мере не согласуется с дидактикой общественных договоров эпохи либерализма; реально-историческое толкование первых идеологически и риторически не совмещается с религиозным увещеванием вторых. Показательным примером тому может послужить один из пассажей «Contratsocial», который даже Карлейль назвал «нелепостью»: «Да будет свидетелем Небо, то самое Небо, которое теперь не делает чудес, что мы, вечно изменяющиеся миллионы, позволяем тебе, также изменяющемуся, навязывать нам свою волю или управлять нами» (цитируется по Т.Карлейлю, 1991,с.208). Помпезность, с какой Руссо сопровождает акт добровольного склонения гражданина к внешней воле, есть корень пафоса «Общественного договора», который, таким образом, обращается в торжественное прошение о рабстве. Что, в общем и целом, делает общественный договор в исполнении европейских либералов во главе с Ж.-Ж.Руссо смешной идеей, о чём не может умолчать даже Т.Карлейль: «Во всяком случае, следует признать, что вера в «Общественный договор» принадлежит к самым странным; что последующее поколение, вероятно, будет с полным основанием если не смеяться над ней, то удивляться и взирать на неё с состраданием» (1991,с.208). Эта идея действительно могла быть смешной, если бы не стала такой кровавой исторической реальностью.
Как доказал Кропоткин в своём анархическом видении истории, европейская демократия возникла из борьбы с монархизмом и клерикализмом за политическую власть. Именно для этой, исключительно волюнтаристской цели и понадобилась воля большинства, то есть демократия, получаемая посредством «общественного договора». При этом обнаруживается неразрешимое противоречие, какое и стало концентром европейской демократии. «Современный философский словарь»(1998) гордо вещает в статье «Либерализм»: «Идея «общественного договора», даже выраженная крайне осторожно, логически ставит государство и власть в зависимость от целей и ценностей личности. Законы и установления обретают легитимно-правовой статус лишь в качестве актов, выражающих «общую волю» или волю большинства». Однако в этом скрыто великое лукавство, ибо добровольность соглашения, лежащая в основе общественного договора, принципиально не способна учитывать ценности личности, если последняя есть личность perse, а не юридическое лицо, и само соглашение получается в результате добровольного отказа подлинной личности от своих ценностей во имя чего-то иного.
Противоречие демократической процедуры общественного договора состоит в том, что добровольность по своей природе исключает принудительность, на чём держится любая власть, и, следовательно, добровольность соглашения лишает волю большинства признаков римской власти как принудительной операции. А в результате мнение большинства теряет категоричность принципа демократического централизма. Итак, в чисто идеальном свете процедура общественного договора не совместима с истинным демократизмом, но их совмещение в государственной реальности обозначается как генеральная задача европейской либерально-гуманистической демократии, – таково внутреннее противоречие последней. Поэтому добровольность, наличествующая в «соприсягательстве» института вольных городов, является злейшим врагом для церковной и королевской властей в средние века Западной Европы и, далее, для европейской демократии. Главная забота любого демократического государства состоит в том, дабы волю большинства обернуть во власть закона, а затем, главное, власть закона сделать законом власти.
В принятом аспекте рассмотрения отношения демократии демоса и анархизма заслуживает внимания объект, который никогда не ставился в такой контекст. Этим объектом является государство Израиль, ещё одна аномалия демократии демоса. Древнейшее духовное богатство еврейского народа зиждется на Торе – священных уложениях, сведенных в Пятикнижии Моисея – части Ветхого Завета (по-еврейски Танаха). В аспекте демократии как формы государственного устройства Тора, будучи ядерной частью компактного духовного воззрения, вполне идентична анархической идее, ибо аналогично отвергает принуждение как способ общежития духов, с той разницей, что этот принцип дан в Торе не только намного древнее анархического, но Тора является первооткрывателем этого принципа в качестве вечного уложения. Поэтому еврейский народ, исповедующий Тору и рассеянный в силу исторических обстоятельств на просторах Европы, испытывал все тяготы отвержения – от средневекового антисемитизма до нацистского геноцида в ХХ веке, – говоря иначе, фаустовская среда постоянно и решительно отторгала от себя еврейскую культуру. Вследствие чего еврейская форма жизнеустройства не может быть подобна фаустовской: если фаустовское мировосприятие отвергает волю Бога в угоду воли коллектива, то еврейская доктрина отрицает волю народа в пользу воли Бога. Религиозный израильский идеолог Нахум Пурер пишет: «С точки зрения иудаизма, между voxpopuliи voxDei(голос народа и голос Бога – Г.Г.) нет знака равенства. Воля народа не отражает волю Бога» (2000). Родство еврейской Торы и русской анархической идеи далеко от случайного совпадения (лучше всего об этом говорит факт того, что князь П.А.Кропоткин вложил в основной принцип анархизма смысл древнееврейского завета), но тематические рамки исследования позволяют только зафиксировать данный феномен.
Однако в иудаизме делают из Торы выводы, прямо противоположные анархическим заключениям. Тот же Н.Пурер указывает, что еврейский народ «никогда не нуждался в демократии как форме самоуправления» и разъясняет: «Когда еврей в чём-то сомневается, он обращается за разъяснениями к компетентному раввину, решение которого является для него окончательным и не подлежащим дальнейшему обсуждению, потому что устами мудрецов говорит сама Тора. Так было на протяжении всей европейской истории» (2000). Таким образом, из Торы выводятся чисто политические пассажи, ибо удостоверяется верховенство решений «компетентных раввинов», то есть тираническая власть священнослужителей, а, следовательно, духовная деспотия. Такая государственная система называется теократией, действительно противоположная демократии. Фаустовская демократия давно покончила с этим противоречием, отстранив религию (теократию) от государства, а израильское государственное строительство, взяв за основу европейский демократический образец, не видит необходимости в этом шаге. Еврейская аномалия демократии демоса заключена в том, что реальная государственная структура в Израиле состоит из эклектического сочетания демократии европейского типа и теократии на базе духовной деспотии. Н.Пурер свидетельствует: «Демократия требует выполнять не волю Бога, а волю народа. Она ставит превыше всего интересы народа (точнее, его большинства, механически определяемого путём голосования по формуле «один человек – один голос»), что неизбежно подрывает авторитет Торы, носителей её мудрости и Самого Бога. …Поэтому для нормального функционирования общества необходима демократическая система с прямыми выборами представителей власти на государственном и муниципальном уровнях, которые должны управлять и принимать решения. Недопустимо, однако, чтобы решения парламента, правительства или Верховного суда посягали на законы Торы. Тора не подлежит ревизии. Её толкование – исключительно прерогатива компетентных раввинов» (2000).
Само собой разумеется, что подобный эклектический уродец не способен эффективно функционировать, порождая изъяны как одной, так и другой механически пригнанных сторон, как пороки кризиса демократии демоса, так и дефекты духовной деспотии. Поэтому не должно удивлять, что еврейская демократическая (или теократическая) аномалия отличается наяву непомерной политизацией общественной жизни страны во всех сферах, высоким уровнем коррумпированности власти, как раввинатской, так светской, низким профессиональным уровнем законодательной и судебной ветвей гражданского творчества.
Итак, ни демократия демоса в чистом виде, ни теократически искорёженная демократия (еврейская аномалия) не могут считаться тем продуктивным образованием для людского обитания, какое прямо вытекало бы из духовного содержания русской анархической идеи и еврейской Торы, и какое умозрительно предусматривается в образе демократии личности. Однако в терминологическом плоскости словосочетание «демократия личности» не соответствует воображаемому смыслу, ибо его семантическая структура состоит из несопоставляемых частей: «демократия» как народовластие мало считается с параметрами «личности». Здесь должно понимать, что в умозрительном образе демократии личности «демократия» понимается не в буквальном смысле власти народа, а в значении, какое придавали ей её греческие прародители – как правление лучших (aristocratia), как банкет мудрых. При этом существенно то, что воспроизводится не абстрактная «мудрость» одна на всех, а мудрость индивидуально мудрых, то есть личностно обозначенных правителей. Отсюда прослеживается уже более точная и полная связь с личностью как источником этой мудрости.
Виртуальная модель демократии как новая форма будущего миропорядка человечества, следовательно, должна быть аналитически опосредована в двух видах: историческом аспекте, дающем знание о правлении мудрых в его первородном (греческом) качестве, и философском аспекте, содержательно выявляющем роль личности в правлении мудрых. Двигателем внутреннего сгорания в этом аналитическом механизме могут быть содержание слов князя П.А.Кропоткина, которые сами собой просятся в эпиграф философского воображения о демократии личности: «Если вы хотите, вместе с нами полного уважения к свободе, а, следовательно, и к жизни личности, вы неизбежно должны отвергнуть всякое управление человека человеком, в какой бы форме оно не проявлялось; вы должны принять начала анархизма, которые вы до сих пор презирали. А, принявши их, вы должны будете стремиться, вместе с нами, к отысканию таких общественных форм, которые лучше всего соответствовали бы этому идеалу и положили бы конец всем возмущающим вас актам насилия» (1999,с.252).
(Продолжение следует)
_________________________________________________
Примечания
1. В объёме рассматриваемой темы есть место только для фиксации основного положения теории анархизма, где «свобода личности» положена термином для отдельного духовного субъекта, в смысловом отношении не являющегося суммой понятий «свобода» и «личность». Для этого компактного духовного производителя князь П.А.Кропоткин реформировал известный библейский завет в принцип: «Поступай в отношении других так, как ты хотел бы, чтобы и другие поступали с тобой в аналогичных случаях» (1999,с.816). Здесь полезно было бы данную интенцию сравнить с принципом Шпенглера, который также использовал лексический оборот библейской мудрости. А широко распространённый тезис о «равенстве» князь превратил в манифест анархического уважения к личности.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

