Русская философия. Совершенное мышление 328. Подражатели
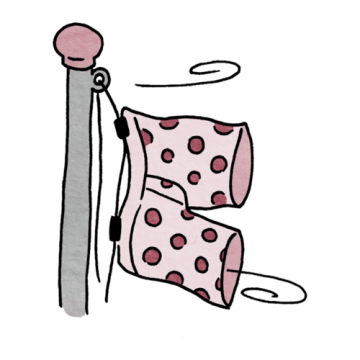
Я уже писал об этом, но не будет лишним повторить снова: советское литературоведение опирается на традиции Белинского, Добролюбова, Писарева и других, в основе «методологии» которых было пренебрежение автором во имя идей (в принципе, не имеет значения каких, чаще всего, благородных, идей свободы, равенства, братства, человечества, прогресса). Белинский пренебрег Гоголем ради свободы, прогресса и прочего. Советская критика продолжила дела своего основателя, превратив автора (вообще, художника) в игрушку классовой борьбы и социально-исторических процессов. Эстафету пренебрежения автором, отчуждения его от созданных им произведений и одновременно – отчуждения от собственно русской культуры, приняли уже российские литературоведы. Они приняли эстафету партийного отношения к литературе (вообще, культуры), как бы они ни открещивались от этого. Устарела теория классовой борьбы и естественноисторического развития, но совсем не устарели пренебрежение автором и отчуждение от матриц русской культуры. Старые принципы переодели в новые одежды «археоавангардизма» (Федор Гиренок), «аналитической антропологии» (Валерий Подорога) и им подобных галлюцинаций, под которыми скрывается российско-советское – «человек – ничто, партия (власть) – все».
Продолжим смотреть, как Подорога превращает Гоголя из служителя стране в прислужника государству, из полноценного человека в чудовище.
Если раньше (по советской концепции) человеком как художником управляли его классовые интересы, то теперь (по новой советской, только уже не наукообразной, а дикой концепции) всем заправляет «воображаемая антропология автора», «миметическая практика», «воля к выражению значимых содержаний доступного опыта» или просто, без терминологической шелухи, – физиология!
"Возможно ли гоголевское произведение, и если возможно, то как? Внутренняя организация литературы Гоголя как противостоящей реальности единства образов, а не как пассивно ее отражающей. Произведение строится на условиях ему имманентной и разветвленной миметической практики, но внутрипроизведенческой (в оппозиции к внешнему подражанию), и она со своими правилами и законами распространяется на весь ряд произведенного (повести, пьесы, поэмы, письма, рисунки, дневники, "словари", образцы поведения, "страхи", привычки, надежды, случайные занятия, особенности физиологических отправлений и пристрастий, то есть на всю воображаемую антропологию автора), и только учитывая общую конструктивно-стилевую особенность организации гоголевского произведения, можно объяснить возможность его актуализации в том или ином литературном опыте. Вне произведения нет иной реальности, которой оно ставило бы себе целью подражать. Основной мотив внутрипроизведенческого мимесиса - это воля к выражению значимых содержаний доступного опыта: поэтому не подражать, а противостоять, бежать, скрываться и застывать».
Подорога использует античный термин «мимесис», но вкладывает в него кондовый советский смысл «подражания» как отражения или выражения, одновременно максимально расширяя значение термина «произведение», настолько, что любое действие/состояние человека, например, утренний стул, превращается в произведение. Античный смысл мимесиса как «подражания», «содрогания» или «творения» Подорога подменил смыслами, заимствованными им у современных западных философов из терминов «воля», «другой», «наблюдатель», «кризис» и т.д. Вот пример полученной посредством этих нехитрых приемов гремучей смеси:
«Биографический или исторический автор по имени Гоголь, идеальный (универсальный наблюдатель), условный субъект, который в данный момент способен разрешить остроту миметического кризиса, - быть-себе-другим. Гоголь, как автор, особенно в малороссийских повестях, отождествляет себя с этнографическим наблюдателем, мифографом, собирателем народных поверий, говоров и "сказаний". Развитие авторского образа в полноценную фигуру рассказчика (обладающего сказовой формой). При постоянном доминировании одной избранной черты литературного антропогенеза гоголевское миметическое чувство - это всегда подражание мертвому. Однако человек и мир замещаются у Гоголя дважды: миром кукол, где человеческое себя проявляет через оживление мертвого, - благодаря тяжести и несвободе, и миром птиц, где человеческое упраздняется в пользу особых отношений свободы, возможность полета (достижение поз и зоркости). Когда Гоголь подражает, то он подражает людям так, как если бы был птицей, но, будучи птицей, подражает так, как если бы был чем-то большим, нежели птица или человек. Имя главного персонажа "Мертвых душ" ведь Чи-Чи-ков, имя, которое щебечет. Он не подражает буквально, а соотносится через моменты подражания с разными областями и символами литературной реальности. Подражать другому как птица, подражать без принуждения и смысла, а только ради звуко-артикуляционной или миметически-двигательной радости, это значит самое простое - быть птицей».
О чем бы ни говорил глупец-хитрец, он говорит только о себе:
«Подражать - это существовать».
Это готовый слоган российских академий наук, министерств, телеканалов, газетных редакций. Интериоризируй того, кому подражаешь, и делай, что хочешь:
«Другой - не вне, а внутри самого подражающего существа, - образец, шаблон, эквивалент; то, чему подражают, но что не превращается в продукт подражания, а так и остается источником подражания. Это важнейший момент».
Потом можно нести любую околесицу, в которой все равно будет угадываться ее автор:
«Это важнейший момент, как мне кажется, в понимании гоголевской техники подражания, ее дальнейшей эволюции к позднему кризису, знаменующему отказ от миметической способности (полная утрата чувства письма). Важно не то, что Гоголь похож на птицу (даже если и похож) или что он ведет себя как птица, точнее сказать - птицей, а то, что образ птицы посредствует в представлении других образов (и прежде всего "человеческих"). Гоголевская орнитофания (птицеявление). Косоглазие Гоголя, "не смотреть в глаза" - не передается ли оно как особенная черта и поведению персонажей? Действительно, все косят, нет прямых взглядов, нет вопросов-и-ответов, вообще отсутствует какое-либо подобие человеческой коммуникации».
Между делом можно прочесть Кастанеду и стянуть пару идей:
«Я хочу сказать, что сновидный, событийно-реальный или шизофренический подходы являются формами повествования, которые или слабо, или вовсе не различаются самим Гоголем, ибо для него ценен фрагмент, частичка языка, а не языковое целое и не причинно-следственное образование. Но главное все-таки в том, что внутренний разлад, так похожий на шизофренический, преодолевался Гоголем всегда, когда он привлекал к образной игре ту свободу, которой он обладал как удивительный сновидец. Даже кошмары не пугали его, и когда он творил, то продолжал спать».
Завершает этот свободный полет галлюцинаций заведующего отделом аналитической антропологии российской академии наук уже что-то очень личное - «план анальной эротики»:
«Насколько легки отправления, настолько же легки образы, воздушны и радостны, и, конечно, совсем напротив, насколько тяжелы (все эти мнимые и «реальные» запоры, колики, несварения, геморроидальные кризы), настолько же тяжелы образы, настолько они пронизаны страхом и тревогой. И кто же виноват во всем этом? Не только же этот злосчастный телесный орган, а скорее кто-тот другой, тот чужой, который преследует, устраивает козни, обольщает, опутывает ловушками, - не сам ли черт проник в него, завладел им и вот теперь играет там свадьбы. Только предположив подобное психическое состояние личности, можно понять, что значит быть в себе и не в себе, оставаясь между тем в одной индивидуальной ипостаси. Можно даже сказать, что, в конечном итоге, план анальной эротики вытесняет все другие, а точнее, вытесняя, включает. В сущности, мы здесь сталкиваемся с особым миром гоголевской физиологической топики телесного низа. И дело не только в том, что бесконечные сетования Гоголя на плохую работу желудка, начиная с определенного времени, становятся совершенной манией, а в том, что через некую, замещающую его модальность (амбивалентную), открывается значение всех других телесных органов и частей и их чувственных функций. И эта модальность относится именно к орально-анальной сфере: вбирать/выбрасывать, задерживать/отпускать.
Не можем ли мы себе представить карту гоголевского внутреннего тела, составленную на основе следов, наиболее часто откладывающихся на оси воображаемого пространства (литературного) «работой» особых органов тела? Итак, в центре этого мира располагается причудливо скрученная прямая кишка, которая естественным образом функционирует и, казалось, не должна соотноситься с «душевным» составом, принадлежащим к психосоматическому слою жизни. Но именно в силу того, что ритмическая структура не функционирует так, как хотелось бы, и сама личность, особенно там, где естественность работы органов питания и дефекации нарушается, неизбежно регрессирует к инфантильным уровням, к оставленному далеко позади предыдущему опыту.
По мере ухудшения работы желудка Гоголь уже не в силах производить необходимые образы. Подлинный очаг производящих сил гоголевского «я», сокрытый в желудке, прекращает существовать. И трещина расширяется до пропасти: внутри единого образа связь между низом и верхом нарушается, свето-цветовая гамма исчезает, речь сдвигается в немоту, с решительным отказом от смеха и мимических возможностей. Голодание. Время тяжкой меланхолии. Истощение. Смерть.
Вероятно, он (Гоголь) вообще не имел единого внутреннего образа. Имеется публичный образ Гоголя, но и образ писем автора, они соотносятся, но не совпадают, не образуют единства личностного опыта».
Еще раз напомню, что редко какой текст относится к внутренне осмысленным или философским, таких текстов, как очагов в полисе, ограниченное число. В остальных, бессмысленных и бесчисленных, преобладает подражание, но только не настоящим текстам, не мышлению, а спущенным сверху «шаблонам и эквивалентам».
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

