Русская философия. Совершенное мышление 381. Теорема актуальности 23
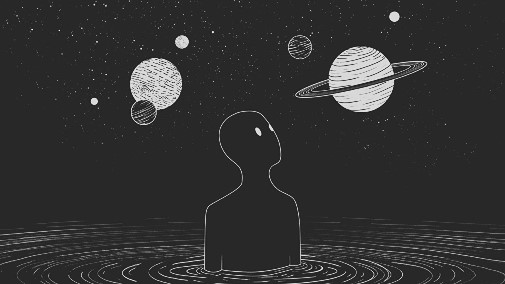
Древние говорили, что философия или мудрость начинается с любопытства, интереса, влечения, любви, тяги, стремления к чему-то или куда-то; в этом влечении Мамардашвили интересовало его практическая бесполезность (здесь я отвлекаюсь от того, что любопытство может иметь вполне практический, прагматический характер) и его случайность, как и вообще случайность, избыточность истины и красоты. Однако, если не придавать истине и красоте особенный онтологический статус в сравнении с ложью и безобразием, то окажется, что любопытство становится началом философии совсем не потому, что влечет человека к чему-то светлому, а именно потому, что просто оно влечет. Здесь мне приходит на ум, что в такой интерпретации древнего наблюдения прячется допущение, что философия - это хорошее потому, что тянется к истине, или истинное потому, что устремлено к хорошему. Я вижу это предположение как уводящее от древнего смысла, который для меня более предпочтителен, поскольку более нейтрален, толерантен, как сказали бы сейчас. Древние полагали в начало философии любопытство как силу, тягу, влечение, то есть то, в чем есть, причем выраженно есть, жизненная интенсивность, для них, как и для меня, было важно именно это; невозможно предположить заранее, как человек реализует эту силу, чего добьется, истины и красоты или лжи и мерзости, ответа нет, пока нет опыта. Более того, вряд ли вообще могут существовать такие абстрактные стремления, как стремление к истине, добру, красоте, любви, а, если таковые демонстрируются, то скорее это свидетельствует об искажении, а не норме.
Истина и красота не рождаются из стремления к истине и красоте, они рождаются по другим законам, или не рождаются; Пруст жаждал не истины, а жизни, обновления, возрождения, Декарт мучался сомнениями, он искал не истину, а ясность, отчетливость, твердость восприятия и мышления, и так обстоит с каждым любопытным, его тянет к чему-то вполне конкретному, которое, как мы помним, и случайно, и необходимо. Например, более дурацкого случая, который направил мое внимание, точнее, связал его именно с философией, пусть и с древнеиндийской, трудно придумать: мне было лет 15, когда приятель рассказал мне о где-то вычитанном им эпизоде об индийском отшельнике, который на некую просьбу туриста попросил у него шариковую ручку и "выдоил" из нее немного молока. Глупо? Да. Стремление к истине есть? Нет. Но меня "задело" и тем самым конкретизировало уже живущее во мне любопытство к некоему прорыву, переходу, трансценденции из наличного, любопытство, которое могло увлечь меня в эзотерику, мистику, шаманство, оккультизм, йогу и т.д., однако, в результате нескольких, столь же случайных эпизодов, сдвинуло и закрепило мой интерес к философии как организации внимания таким образом, чтобы не где-то и когда-то и не посредством неких ритуалов, а здесь и сейчас расширить горизонт до осмысленного, поскольку непосредственным действием наличное не менялось, не "доилось" молоком жизни. Я до сегодняшнего дня остался таким же бесполезным в смысле "ручного" изменения действительности, как и был тогда, но худо-бедно научился "видеть" выдавливаемый жизнью, как саньясином из шариковой ручки, точнее, вдавливаемый в наличное смысл живого, оживляющего, как будто жизнь как стихия творения стремится наполнить инертный, пластмассовый, глухо сопротивляющийся мир текучестью живой воды. Стремясь осмысливать мир, я не стремился к истине и красоте, хотя, конечно, мог себя в этом убеждать по глупости, я всего лишь стремился быть живым настолько, насколько могла это позволить мне моя пластмассовость. Философы, вообще, мыслители и мудрецы рождаются не из высокого, светлого и вечного, они прорастают сквозь навоз, грязь, боль и кровь повседневного, не отмываясь от него, а, наоборот, принимая эти кровь, пот и слезы как единственно живое, что им повезло обрести.
Любопытство это не стремление к познанию, истине или, более шире, к неизвестному, это стремление к живому, с чем бы это живое не было связано в человеке; таков древний и, на мой взгляд, точный смысл любопытства как начала философии, поэтому образ чудачка, странненького или убогонького, заглядывающегося на звезды, образ фантазера-Фарятьева, смещает акценты и романтизирует достаточно жесткую проблему сохранения и, тем более, возрождения жизненности, живости. Это невидимая, но очень жесткая борьба каждого человека с самим собой на той чрезвычайно динамичной границе, точке соприкосновения всех активных элементов целостности человека, исследовать которую, как у никого другого, получалось у Перлза. Как это часто бывает, мы не видим очевидного, поскольку оно слишком для нас некомфортно, если не страшно, а именно: мы воспринимаем себя как уже живых, в соответствии с чем никакой необходимости принципиального оживления перед нами не стоит, в действительности же дело обстоит наоборот, мы уже почти мертвы, а жизнь как асфальтовый каток давит на наши почти-трупы, накатывает на каждого из нас океанской волной живой, свежей, оживляющей и возрождающей силы, склоняющей или требующей от нас отказа от омертвевшего в нас, сброса, стряхивания наросшего и затвердевшего, чтобы насытить, наполнить до краев "молоком" жизни. Все не так, как нам кажется, нам не надо "пахтать" Океан жизни, обьединившись со всеми земными, небесными и подземными силами, как это делали герои древнеиндийского эпоса, чтобы добыть скрытые в нем сокровища, в том числе, нектар жизни, амриту, небесный грааль, совсем нет, все наоборот, жизнь - каждое мгновение - сама творит нас настолько, насколько мы внимаем ей, насколько мы алертны, гибки, не хватаемся за "я" и "мы", готовы измениться, обновиться, ожить. Каждый из нас питается самой жизнью, напрямую, один на один, посредники: родители, братья, друзья, соседи, институты, партии, государства, лидеры, вожди, учителя, никто вообще, даже все остальное человечество вместе взятое - не только не необходимы, но в большинстве случаев только мешают нам пить жизнь напрямую, используя наши силы и манипулируя нами. Представление о том, что для оживления человеку необходимы некие особенные действия, характерно для поздней родовой, а также для зарождающейся современной цивилизаций с их магией и религией, обращенных к потерянному человеку, человеку, который воспринимает себя не имеющим внутренних опор и нуждающимся в спасении.
Сначала античные философы, потом Декарт и последовавшие за ним мыслители и, наконец, философы современные, обратились к человеку с максимой "ты сам" ("я сам"), однако все они настаивали на необходимости усилия, "усилия воскресения" по слову Пастернака, предлагая различные технологии достижения истины, добра и красоты, в принципе вторя и, тем самым, продолжая родовые и церковные матрицы, которые можно выразить как "мы вместе с", "мы благодаря", "мы посредством". Заметьте, все говорят об истине, добре и красоте, даже отьявленные мерзавцы, но никто не говорит о жизни человека, все навешивают на человека ответственность за торжество истины, добра и красоты, одновременно игнорируя ответственность за его жизнь. Старый, заезженный, но до сих пор работающий трюк, посредством которого человеку навязываются обязательства перед всем человечеством (чаще - перед его частью, например, государством), по сравнению с масштабами которого его собственный масштаб превращается в бесконечно малую величину, которой можно пренебречь.
Все есть жизнь.
Жизнь есть все.
Человек есть жизнь.
Жизнь есть человек.
Один человек не меньше всего человечества.
Все человечество не больше одного человека.
Жизнь не знает посредников.
Посредники не знают жизни.
Ты есть жизнь.
Жизнь есть ты.
Жизнь это я.
Я это жизнь.
Внимай только себе одному.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

