В тени Водолея (7)
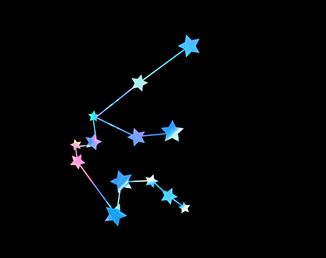
Прижимаю к груди мою книгу. А зал кричит: «Распни, распни его!». О мне глумляхуся седящии во вратех, и о мне пояху пиющии вино. Умер Любимов, режиссер. В метро девушка уступила место. В тот год, когда девушки впервые прозвали меня стариком. Ветер осени золотой развеял меня на родине красивой смерти – Машуке. Старый фильм, Печорина играет актер Ивашев. В разбитое стекло врывался морской ветер. Уверенность, что пройдешь по водам, не замочив подошв, как призрак. Холодный октябрьский день, яркость солнца раздражает, тоска, нервы, вагон, еду, куда, зачем, абсурд, дурость; ромашки у трамвайных рельс проносятся мимо, гнутся на ветру. Еще не увяли, живые ромашки. Умереть с пулею в груди – стоит агонии старика. Что-то сбывалось над ним. Встал в половине седьмого, в Автово, оттуда на машине, за Лугу, за Кингисепп, деревня Малое Кузмичево. Просторный сельский дом. Библиотекари, краеведы, поэты, писатели. Пели хором: «Выхожу один я на дорогу». Потихоньку вышел, по старым деревянным мосткам, к реке, через заросли камыша, сухого, выше человеческого роста. Возвращение, ночь, город, наша Лени Голикова, сияющие ореолы в черном небе, пьяно улыбаясь, убегают вдаль, к Стачек. Потеплело, дождь. Леонидов, гений архитектуры, где твои чудо-здания, где твой город солнца? Миражи, построенные на песке. Шнитке – человек, запрограммированный на бесконечное сочинение музыки. Как только прерывалась работа, он заболевал. Он болел только в периоды отдыха. «Мы благодарны искусству за то, что оно показывает нам то, что логически сформулировать невозможно». Смотрю, пруд, утки плещутся, хрусталь, ясность, грусть, пустота в сердце, близость зимы, и всё это, всё это… На Южном Урале археологи обнаружили страну городов, загадочная цивилизация, 3,5 тысячи лет д.н.э., множество печей для выплавки железа. Похолодало, мглисто. Делакруа, прочитав русские новеллы, «Дубровский» Пушкина и «Фаталист» Лермонтова, замечает у себя в дневнике, что эти новеллы написаны в подражание Мериме. Как будто сам Мериме и написал, взяв русские имена и декорации.
Мглисто. Лина Кавальери. Горчичное зернышко, верь, верь в свою горькую истину. Первобытный человек сначала нашел окись меди и железа для того, чтобы сделать краску и создавать свои наскальные рисунки. Чтобы рисунки дольше сохранялись, их рисовали на большой высоте. Для этой цели изобрели лестницу. И только значительно позже стали выплавлять медь и железо для мечей и утвари, а лестницу использовать для строительства. Тускло. Ньютон стоит на плечах титанов. Голые стволы, черная вода. Старый дом в псковской деревне. Туман, сырой снег. Вот он, на пригорке. Окна заколочены, двор в бурьяне, гнутся на ветру сухие стебли репейника. Сколько же лет прошло, как я тут был последний раз? Тридцать? На похороны Татлина пришло семь человек. Умер через три месяца после смерти Сталина. Утром сажусь за свой стол, снежная равнина безбрежно ясна. Что-то вроде многоярусной пирамиды, наполненной стоящими людьми. Основание, самый нижний ярус, самый большой и широкий, там стояло очень много народа, несметные толпы, и я заметил, что все они слепы, у всех вместо глаз тускло мерцали свинцовые бельма. Толпы слепцов. Чем выше ярус, тем он уже, и тем меньше на нем людей, и тем больше они зрячи, тем яснее и проницательнее их зрение; я видел, как всё светлее, всё чище становятся их, направленные на мир, взоры. И, наконец, на самом верху этой загадочной пирамиды, на ее острие, как на утесе, стоял один единственный человек; только он один и мог там, на этой высоте поместится; его глаза сияли, как два солнца. Это существо смотрело вокруг себя во все стороны, и видело всё, видело все ярусы пирамиды до самого подножия и всех людей, толпящихся на них, его же не видел никто. Он был Невидимка. Киты, ослепнув, кончают самоубийством, выбрасываются на камни. Врубель ослеп. В больнице для умалишенных подолгу стоял у окна. Уверял, что если он простоит здесь 10 лет перед Богом, то Бог вернет ему зрение, даст новые изумрудные глаза, он начнет новую жизнь и опять будет работать, рисовать картины. Третий глаз Шивы. Лучше быть первым в аду, чем вторым на небе. У папуасов – если племя изгоняет кого-нибудь, то по нему поют заупокойную песню, и изгой умирает. То же – у сибирских народов, когда поют такую песню шаманы. Конные монголы охотники с прирученными беркутами на правой руке в зимних горах. Охота на волков. Два беркута нападают на бегущего волка, накрывая его крыльями, он борется с ними. Тут поспевает монгол охотник; спешась, поражает волка ножом.
Умерла Елена Образцова, на 75 году жизни. Кармен, золотой сон. А боги и во сне, как кони, белозубы. Блейк, призрак блохи, тигр во мраке, Иерусалим, гимн Великобритании, заклинатель сов. Глубина, мать тьмы, застольные беседы с мертвецами, рисунок мира на обратной стороне этой скатерти. Стасов Серову: «Правда ли, что вас не интересует содержание?». «Не интересует» ответил Серов. «Меня интересует только художественно написанное». Монах Авель, предсказатель бедствий и войн. Вавилон, ворота бога. В Вавилоне жило 180 тысяч. Ворота Иштар из синего кирпича. Прихожу во двор; у подъезда стоят кони-львы, сами вороные, а гривы рассыпные, шерсть как дорогой атлас лоснится, а заложены в коляску. Лесков. Чертогон. Румыния, книги на золотых пластинах. 400 золотых пластин с древними письменами, сантии Даков, записаны славяно-арийскими рунами. Миртград. Орий из Ирия. Рукописи Леонардо в библиотеке Милана, 6 тысяч страниц. Леонардо писал всю жизнь, каждый день по 2-3 страницы. Не имел ни университетского, ни даже школьного образования. С иронией называл себя необразованным и безграмотным человеком. Не знал латыни, поэтому не мог прочитать многие научные книги. Умер в 67 лет. Мрамор проходит через резец Микеланджело, чтобы превратиться в скульптуру. Когда Микеланджело указали на недостаток сходства его портретов с Юлием и Лоренцо Медичи, он гордо ответил: «Кто заметит это через тысячу лет». Большая книга, большое несчастье, Каллимах. Бедные художники, они погибают, если о них не говорят. Моя госпожа Меланхолия, моя Эгерия, мой злой гений. Встреча Сатурна и Луны в созвездии Скорпиона. По ночам воздух сгущается и это вызывает печаль. Громада невидимого, дождь со снегом. Поэзия – это вино заблуждений, поднесенное пьяными наставниками. Они плывут в челне безрассудства и обитают в роще безумия. Учился у творящих превращений, черпал в источниках своего сердца. Писал книги и прославил свое имя в мире. Отличался изысканными замыслами, потомкам передал свитки.
Кто-то внутри меня то ли говорит, то ли поет, не дает спать. В Политехнический, путевки. Холод, дождь. Дух искренности, узор письмен. Велика сила Вэнь – вместе с Землей и Небом рождена она! Человек – налитый зерном колос пяти стихий, он поистине сердце Земли и Неба. Когда же сердце рождается, появляется речь, а речь появилась – и вэнь становится ясно видна. Проясняется узор и являются письмена. Узор же речей – сердце Неба и Земли. Речь и письмо обнаружат разницу между благородным и подлым. Солнечно. С книжной ярмарки. Велес, его стада и струны, табуны и свирель. Посидим на скамейке в Екатерининском садике, мороженое, зацветающий каштан. Ницше, впав в безумие, подписывал свои письма: «Распятый Дионис». В ювелирный, выбирали серебряные ложки, в подарок на серебряную свадьбу. Весь май ураганный ветер. Извержения вулканов на Галапагосских островах в Тихом океане, вулкан за вулканом. Такого еще не бывало. В Перми неслыханный ливень, затоплены улицы. Родственные души не растут на деревьях. Григ Чайковскому. Старая съемка, парад Победы в Москве на Красной площади в 1945 году. Льет дождь, толпа под зонтами, солдаты в касках, воины-победители. Жуков и Рокоссовский на лошадях, белой и вороной. Сталин над всеми, вождь народов. Женщины в шляпах того времени, счастливые лица. Вечером салют. Великая Победа.
Полнолуние. Окликает по имени. Федра, Фрейд, голова Орфея. Пушкин, более 50 автопортретов, молодой, в Кишиневе, в Одессе, носил длинные волосы, кудри до плеч. В Михайловском в ссылке отрастил баки. Рост Пушкина 166, 64 см. Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Посвящено жене, Гончаровой. Пруд, закат, тростники. Я один, всегда один, даже когда с кем-то, и глубоко-глубоко в душе – один одинешенек, всегда, всегда. Рильке о Родене, отшельничество, «Башня работы». Еду, за окном вагона ливень с градом. Витебский, город затоплен, люди ходят по пояс в воде. Число Фи построило всё живое на земле, божественная пропорция 1,618, резец Фидия, циркуль Творца, золотое сечение-свечение, звон позвонков. И опять Ом, первоначальный, творящий звук. Книжная галерея у Михайловского замка, жаркий день, сцена на солнцепеке, просят выступить с речью о Книге. Велес играет на свирели в полуденный зной на лугу. Я в Киеве, в Софийском соборе, тайна моя всегда со мной, всегда со мной, она во мне; но за мной следят, непрерывно, неотступно следят и подслушивают; с рождения до смерти, до последнего вздоха.
Красил забор. Солнечно, царский знак, фарн. Роза мира, Велга, Звента-Свентана. Подходит к калитке, после бани, счастливая. Зари румянец дальний шевелит мерцанье свеч. Аграфия, отвращение к письму, весь день, не могу взять перо, не могу видеть чистый лист бумаги. Поцеловала в лоб и ушла, в цветастом летнем платье, веселая. Ночью гроза, странная, бесшумная, вспышки сквозь пелену туч, со всех сторон, кругом, а молний не видно. Потом молнии стали сверкать зримо, ослепительные, огромные, через все небо. Таких мы никогда не видели. Гроза бушевала часа три. Феерия. Мы стояли у окна на веранде, она у меня за спиной, трепеща и вскрикивая при каждой вспышке. Утром тучи. Опять в депрессии, говорит, что ей никак с собой не справиться, все время ждет какого-то несчастья. Говорит, что погибает. В страхе: приближается день отъезда. Страх растет. На смерть ехать. Завтра же сдаст билеты. Тяжелый разговор. Так жить невозможно. Меня интересует только моя Книга, а больше ничего на свете не интересует. Книга заменила мне жену, заменила всё. Вся моя любовь и нежность обращена на Книгу. Предлагает расстаться. Ее затверженная пластинка: расстаться, расстаться.
В море медузы. Клод Лоррен, закат в золотой дымке. Вечером после ужина пошли в армянскую церковь на горе над бухтой. Уже темно. Грегорианский крест. Библия на древнеармянском, на пергаменте. Луна, оранжевая, над горой. Фотографировались. Вернулись в номер. Бессонно. Всю ночь грохот, рев и вой. Танцплощадка, половецкие пляски, визг нимф в бассейне у нас под окнами. Сад пыток. Гуляли по набережной, тот же оглушительный рев и грохот, кафе, бары, аттракционы, тиры, воющие певцы, шашлычный дым. Девушка в кабинке, сидит, опустив ногу в аквариум с рыбками. Рыбки облепили ее изящно очерченную, белокожую ногу. Уж приближается ночь, покориться и ночи приятно. Старинная греческая крепость Никоптия на горе над морем, копченые сардины, вино. Крутясь и танцуя, Амма создал все спиральные миры Вселенной, звезды и зерна. Бледный Лис прилетел с Сириуса, изготовил маски и научил говорить. В день нашей свадьбы нам подарили яблоко из оникса. Оникс избавляет от печали и меланхолии, укрепляет дух, вселяет оптимизм. Полезен пожилым людям. Все пройдет, все пройдет. Сердце шире мира, разрыв всех узлов.
Октябрь, вечер, бреду по дороге. Фонари зажглись. Вокруг каждого фонаря очарованный рой заблудших душ. У Тютчева: «бродит сиянье». «Бродит», а не «брезжит», что, казалось бы логичнее, для непоэта. Веберн, число 23. Всю жизнь не расставался с книгой Гете «Учение о цвете». Перед нами художник, который самые высокие идеи выражает минимумом слов. Свет глаз. Для меня нечистая нота – что-то ужасное. Веберн весил около 50 кг., рост около 160 см. Убит американским солдатом 15 сентября 1945 года. Ему было 63. Кто такой Веберн, сам Веберн не знал. Шёнберг страдал трискайдекафобией (боязнь числа 13). Он родился 13 числа, что всю жизнь считал дурным предзнаменованием, и 13 же числа умер. Боялся дня, когда ему исполнится 76, потому что в сумме эти цифры составляют пресловутое число 13. Умер 13 июля 1951 года именно в 76 лет в 11.47 вечера за 13 минут до полуночи. Язык, вдохновляй разум! Форма – значит красота. Жить – значит отстаивать свою форму. Разбирала при мне старые письма, записки, поздравительные открытки. Заплакала. Память умерших. Он писал силою Пишущего Имени и отдавал людям. Мудрецы воссияют сиянием небес. Оборванная последняя фраза второго тома «Мертвых душ»: «Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва…». Курские помещики хорошо пишут. Ты равен духу, которого созерцаешь. Когда придет Бог, смотри вниз и записывай сказанное. Суббота. К Земле приближается громадный метеорит, прогнозы ученых неутешительны. Мглисто, высокий шаг облаков. Вишну на белом коне в конце времен. Одежда первой четы, знак Каина, радуга и скрижали. Вошедшие во дворец круга и квадрата испортили точку. Во тьме они оборачиваются в образ змея с двумя головами, летят в бездну и плавают в великом море. Сияние посеяло семя, красу мира. Каждому началу видел я конец. Будет день один, он известен Господу, ни день и ни ночь. В мире существует 45 оттенков огня. Понедельник, солнечно, ходили платить квартплату. Блеск еще зеленой травы на газоне. Кошмары. Иоганн Генрих Фюсли, ночная кобыла. Только там затихнет Лилит и найдет себе покой.
Зачем-то понесся на Невский, бес в ребро. Она осталась дома, истерзанная своими черными мыслями. Гостиный двор, через подземный переход, афиша: Ингмар Бергман, неделя ретро фильмов в кинотеатре «Аврора» с 13 по 17 ноября. Фонтанка, мрак, дождь, фонари, толпа. Гул гигантских городов. Жутко, дико. Мое одинокое, бессмысленное блуждание в этот вечер, поступки, достойные сумасшедшего. Что я тут ищу? Число, букву, звук, этих троих серафимов, созидающих нового Адама? Магазин «Порядок слов». Моя Книга лежит среди других книг на прилавке. Сделав вид, что интересуюсь новинками, беру мою Книгу, держу в руках, листаю. Вечер безумных действий. Мое лицо убрано навсегда, безвозвратно из ниши времен. Умер Мамлеев, 84 года. Полночь. Луна в голубом круге. Встала рано, уехала в бассейн. Бэр, биологический момент. В Египте разбился самолет с туристами, возвращался в Петербург. Погибло 224 человека, все, кто был на борту. Призрачно, Лейбниц. Мнимые числа – это поразительный полет духа божьего, это почти амфибии, пребывающие где-то между бытием и небытием. Книга – письмо к себе, написанное тенями и отблесками на голой стене. Сорвался с облака, злоба дня, то да сё. Трамвайная остановка, солнце между домов, почернелые листья блестят утренним серебром. Воскресенье, пошли заказывать для нее очки на дальнозоркость. Наладим ли мы опять нашу жизнь? Тебя любить, обнять и плакать над тобой. Листаю мерцающий лед этих страниц. Что ж, очень интересный, своеобразный писатель, о нем еще обязательно вспомнят. Семь книг облачной библиотеки. Кодекс Гигас, библия дьявола, на пергаменте из ослиной кожи (потребовалось 160 ослиных шкур), высота 90 см., ширина 49 см, толщина 22 см., весом 75 кг. Самая большая и самая тяжелая книга на земле, (сдвинуть можно только усилием двух человек) написана монахом-писцом в бенедиктинском монастыре в Чехии в начале 13 века. Писал 30 лет в затворничестве, посвятив этому всю свою жизнь. Свод средневековых знаний. Изображение дьявола во всю страницу. Имя писца неизвестно. Скрытая мощь, идущая от этой книги, притягивает к себе людей. Кодекс Гигас находится в королевской библиотеке в Стокгольме. Язык ветвей. Имя в шуме волны, плеснувшей в берег дальний, мое, не мое.
Бесснежно. Древний ужас. Седой опыт художников всех времен. Ну вот, выбрались хоть куда-нибудь. Выставка буддизма в Эрмитаже. Число Будд бесконечно, и у каждого Будды своя Чистая Земля. Проклятие девятой симфонии, несущее композиторам неминуемую гибель. Три ноты в такой последовательности вызывают тревогу и страх. «Мрачное воскресенье», песня-убийца – вызвала сотни самоубийц в Венгрии. Шумерский гимн богу Зла. Белое на белом, черное на черном. Что-то там светится изнутри. Она, Гармония, Мелюзина, прекрасная змея моих вещих снов, трепетание крыльев бабочки на грани исчезновенья. Ищу опору в себе самом, в пустом сердце, где огни и мрак. Вслушиваюсь в несказанное, любуюсь невидимым. Бритвенная ясность. Декабрь, в метро, старик и старуха, совсем дряхлые, дремлют на сиденье, он – с седыми, обвислыми усами. Вышли, шатаясь, держа друг друга. Луна все в том же голубом ореоле. Ольга Розанова, зеленая полоса. С рождения я имел на душе черное пятно, которое росло с летами и чуть было не зачернило всю душу. Я плыл, но с бурей вдруг предстала смерть ужасна. Стихи говорят о воле. Передай волю в словах. Эта сила поистине велика, родилась вместе с землей и небом. Уши созданы для того, чтобы слушать музыку. Глаза созданы для того, чтобы видеть красоту. Уши и глаза – дверные створки сердца. Поэтому уши должны слышать гармонию, глаза – видеть прекрасное. Понедельник, приморозило. Куда-то едем, троллейбус, страшный мир. Что ж, все в наших руках, и этот крепко затянутый узелок. Мир не имеет по отношению к нам никаких намерений, ясно как нож в руке убийцы. Миром правит молния в электрическом утюге. Я меж всеми и вся, потерянная иголочка. Где голова Гойи? Ул. Кузнецова, бесснежно, мороз, мрак, утесы многоэтажья. Ураганный ветер с залива. Идем, сцепясь, нагнув голову. Конец этого года.
Спутник Юпитера «Европа», ледяной кокон, подо льдом вода, океан, испускает звуки, писк дельфинов. У всех геометров глупый вид. Маркиза де Помпадур. Стою на дороге, искорки снега вьются, блестя на солнце. Искал станок для бритв. Афина, вещий ворон в шлеме. Что уму позор, то сердцу красота. Мороз. Эпидемия свиного гриппа, все в марлевых повязках. Полнолуние, Офаниэль, блюститель лунного круга. Зинаида Волконская, царица муз и красоты, северная Коринна, в волшебном замке музыкальной феи. Умер Виктор Львович, инфаркт, 70 лет. Гулял, гололед, солнце, голубое небо, ручьи, как весной. Грустные мысли. Пусть разрушается тело – душа пролетит над пустыней. Смотрю на мир сквозь магический кристалл, октагон, восьмигранник. Совиные глаза слов. Лежу с женщиной, у нее на лице трагическая маска, Мельпомена. Отдернул штору – метель. Манчжурия. По степи скачет всадник на мохнатом коне, древний воин с трезубцем на шлеме, сын Великой Матери. Украсил себя шрамом на подбородке, бреясь новой бритвой. Спасительная чуточка безобразного, как любил говорить Дега. В театр, «Травиата», Рене Флеминг. Я был на зрелище: какие ощущенья во глубину души прельщенныя влились!
Оттепель, февраль, голос арфы отзвучал. Жуковский умер в 69. Как мне сейчас. Достать чернил и плакать. Уехала куда-то за Финляндский вокзал, в военкомат, по траурным делам, насчет покойного Виктора Львовича. Тусклость, гаснут угольки в крови. Печальна плоть, и книги надоели. Мы – буквы магической книги, и эта вечно пишущаяся книга – единственное, что есть в мире, вернее, она-то и есть мир. Читаю или пишу, ниже, выше, мне уже не отличить, где я, где они. Когда я пишу, я узнаю, что я хотел написать. Ну вот, теперь-то я знаю, что хотел написать о священной горе Меру в Индии. Мир существует, чтобы войти в книгу. В мою Книгу! Кому это непонятно? Погасшему вулкану? Вернулся с прогулки, ей плохо, давление подскочило, дрожит, руки и ноги ледяные. Солнечный день, почти весенний. Трепет тех метелочек во льду, там, у ограды. Стоял у дороги, перед тем горбатым мостиком, полянка в снегу блестит на солнце, куча свежесрезанных черных сучьев. Их горьковато-нежный запах. Невский, вечер, огни, небо в сторону Невы темно-голубое с фиолетово-розовыми полосами, в сторону площади Восстания – темно-синее. Шел от метро домой, луна в двойном ореоле: жемчужном и с краю – коричнево-красный. Жозефина Бейкер, танцовщица, мулатка, покорила Париж, изображая обезьянку и исполняя дикие танцы. Под конец танца влезала на пальму. Вирджиния Вулф, 4 тома дневников, 5 томов писем. « Этот туманный мир литературных образов, похожий на сон, без любви, без сердца, без страсти – именно этот мир мне нравится, именно он мне интересен». Слуховые галлюцинации перед приступами безумия, слышала голоса птиц на оливах древней Греции. В Капеллу. Гуго Вольф. Сколь тяжела участь художника, если он не в состоянии сказать что-либо новое! Умер Умберто Эко. В тот же день умерла Харпер Ли, «Убить пересмешника». Метель, струнки на ветру, их трепет, всегда, всегда, белое, черное. Сосны поскрипывают, постанывают. Это мой истерзанный мозг стонет, распятый на кресте бессонницы. Агония Христа длится вечно, и в это время нельзя спать. Приходил сантехник, поставил счетчик воды. Домоуправ, подписать акты. Ясность свидетельств. Голое слово правды, холодно и страшно ему одному в мире. Бегущий Апис с мумией на спине.
Затерялся в зеркалах, в отражениях отражений. Из ненаписанного. Тот, кто увидит в небе призрачный город гандхарвов, того ждет несчастье и гибель. Время убийц с голубыми глазами. Великое произведение с неизбежностью должно быть по своему смыслу темно для всех, кроме горстки тех, кто подобно его создателю, приобщился тайн. А оттого вполне достаточно, чтобы у него нашелся всего один понимающий читатель. Снежная лавина в горах, Мечислав Карлович, пропавшие без вести, их тени бродят вокруг нас по ночам, но никто их не узнает. Неузнанные, уходят с рассветом, растворяются в воздухе. Возможно, они живут на Луне. А мы с Венеры. Откуда же еще? На Венере красно-кровавый, раскаленный песок, скорпионы и раковины. «Принцесса «Турандот» в Мариинке в новом зале. Час поздний, бежим на автобус, шестерка, заворачивает. А остановка-то вон где, едва видно, на краю земли! Скользко, промозгло, по-мартовски. Продрогли на ветру. Минута тоски когда-то давным- давно выбрала нас, а жало ее до сих пор в нас живо; мы с тобой, пронзенные в тот далекий вечер, все еще трепещем на этой игле. Двуединое, сросшееся существо, куда же нам друг от друга деться? Некуда, некуда… «Мальчик и девочка», фильм шестидесятых годов по сценарию Веры Пановой. Врубель о Серове и Коровине: «У них нет натиска и восторга». «Вон из-под роскошной тени общих веяний и стремлений в каморку, но свою – каморку своего специального труда – там счастье!» Последние слова Врубеля: «Николай, довольно мы здесь полежали, поедем в Академию». Проснулись посреди ночи от какого-то ужасающего грохота за окнами. Семь кузнецов куют счастье для всех людей на земле. Вавилонская башня уже возведена до небес, достраивают последний этаж. Скоро нам туда переселяться. Три года со дня смерти Саши Старовойтова. Кладбище, горсточка пепла в урне. Рядом могильщики жгут костер из веток спиленного тополя. Огонь пляшет, разметав алые космы, такой веселый, буйный. В Ростове на Дону разбился «Боинг» из арабских эмиратов, все погибли. Писать становится все труднее и труднее. Смысл жизни, когда я не работаю, сразу мельчает и теряется. Вирджиния Вулф. Трехмесячный младенец в утробе слышит, как стучит сердце матери, слышит ее дыхание. Умирающий Розанов в розовом женском капоре. Голос из мрака: «Ноты молний! Читай ноты молний!». Артур Рубинштейн, старый, седой, маленький, с крючковатым носом, как попугайчик, пальцы сморщенные, лапки краба, летают по клавишам. Яков Чернихов, архитектурные фантазии, слово заменить знаком. Язык графики станет международным языком. Солнечно, голубая дымка, пруд, горбатый мостик, неизвестность. Навстречу девушка с кошкой и попугаем.
День смерти Павла Первого. В этот день Павел в Михайловском замке, идя в свою спальню, взглянул в зеркало, которое было кривым и искажало отражение: «Посмотрите, какое смешное зеркало – я в нем с шеей на сторону!». За полтора часа до своей гибели. Часовой у ворот Михайловского замка кричит Петербургу: «Император спит!». После этого все в Петербурге должны лечь спать, и никому не позволено выходить на улицы. А с Невского и Марсова поля спешат Пален, Зубов, Бенингсен, ведут гвардейские батальоны. Вином и злобой упоенны, идут убийцы потаенны. Зубов ударил Павла золотой табакеркой в висок. Павел упал. Все кучей на него навалились, задушили шарфом. Человек рождается с полностью готовым правым полушарием мозга и не готовым к работе левым полушарием. Правое полушарие – живописные, образные, музыкальные способности, танец, все художественное, творческое. Левое полушарие – язык и логическое мышление, начинает работать только с двух лет. Также и в истории: человечество сначала мыслило только правым полушарием, только образно, и так истолковывало мир, только через искусство и религию. Вначале были искусство и религия. Немецкий ученый Клаудио Шмидт открыл в Средиземноморье древние храмы, которым 11 тысяч лет. И случай – бог-изобретатель. Каждый миг подсовывает всё, что есть в мире. Ах, опять Египет, пирамиды, боги, цари! Семь раз повтори «ах» и улетай в свой рай, хохлатый ибис! Идем, начинает темнеть, холодный ветер, новостроечные колоссы, близко залив, дымящаяся башня слева. Уверяет: что это ядовитый газ, хлор или сера. Ее терзает тревога, говорит о ненадежности этих новых домов, долго ли они простоят, ей кажется, что они уже шатаются под напором ветра и вот сейчас на нас рухнут. Из-за этого не спит уже третью ночь. Плачет: завтра день смерти матери. На Стачек по жилищным делам, насчет протечки сверху. В кабинете у чиновника разрыдалась. Вторник, Дюрер, меланхолия. Скрыть мастерство в тумане над рекой. О тленности, река времен. Голый человек на голой земле. Каждый раз. Начну на флейте стихи печальны. Шмель и две бабочки с голубыми глазами на краях крыльев, серафимы. Встреча в солнечном луче. Слова и перстни. Брожу неприкаянный все эти апрельские дни. Не понимаю, чего же еще я жду от себя? Звездоносного ниспадения с невозможного неба? Девятого вала? Седьмой беды? Чужд границ, слеп и нем. О как божественно соединение извечно созданного друг для друга! Дышу-пишу, звуки-знаки возникают из вибрации этой жизнестойкой спирали, у нее 70-й виток. Верь в чудеса, и они придут.
Ночью дождь. И сейчас. В вазе у нас на столе распустились листочки тополя. Бальмонт в сюртуке с пышным шелковым галстуком, ромашка в петлице. Поэзия как волшебство. Непонятный странный шепот – шепот капель дождевых. Как весело, как горестно весной. Пауль Целан, рифма к Незримому. Непременно буду в этом аду, где они все, в кровавой луже оскользнусь. Не могу написать «поскользнусь», хоть режьте. Протестующий вопль пера: не могу я так написать! Не могу! Это самый страшный, смертный грех писателя. Вечность буду в гробу биться без права на помилованье. Цветаева – зеленоглазая рысь, не признавала никаких депрессий, только экспрессии. Ветер желаний надувает паруса языка. Подходим к Михайловскому замку, теплынь, нам жарко, ров, свежая травка зеленеет на откосе. Она в своем сиреневом пальто и берете. Все уже собрались, расселись за огромным овальным столом; звучит Державин, его могучий глагол: «Я здесь умру, – но и в эфире мой глас по смерти возгремит!».
Чудеса-любеса, зеленое солнце, новооперенное. Забытая страна, без конца, без края. Едем навестить родные места, сто лет выбирались. Все те же старые лиственницы, грачи строят гнезда, хлопанье крыльев, крики. Ржавый шпиль школы, где мы с тобой когда-то учились, в давние-давние времена, не в этой жизни. Деревянный сарайчик на пригорке, храм святой Ольги. Сергей Прокофьев в ответ, что его музыка непонятна: «Я родился гением, и мой слух слышит то, что никто не слышит, мой слух опережает время». Александр Прохоренко, героическая гибель, похороны, поселок в Оренбургской области, шествие, солдаты несут гроб. Залп из автоматов. Жизнь камышовок. Болотные камышовки – наилучшие имитаторы певчих птиц. Ни одна из птиц не сравнится с ними в этом таланте. Перенимают песни любых птиц, которые они слышат, соловья, зяблика, овсянки, жаворонка, ласточки, иволги, всех. После зимовки в Африке приносят более 80 песен разных птиц, которые они там запомнили. Не просто имитируют, а импровизируют, творят из чужих песен свои, свою музыку. Действуют как настоящие творцы. Перенимают чужие песни по принципу эмоциональности. Их привлекает эмоциональность, накал, страсть чужих песен. Камышовки живут три года. Русский язык – самый верный аналог песен певчих птиц: также свободно комбинируются слова во фразе. Утром, раскрыв окно, вижу: журавли! Летят клином высоко в чистом, голубом небе, курлычут. Поехали на пл. Стачек, танк на постаменте, дзот в цветах, в георгиевских лентах. Концерт, песни, участники шествия «Бессмертный полк» с портретами на древках. Часы неба и часы души не повторяются. Если зажечь свечу у себя за спиной, а перед собой поместить кристалл кварца, чтобы свеча его освещала, и сосредоточить взгляд на освещенном кварце, то в голове возникнут все книги, которые тебе необходимо написать, и все мысли, которые тебе надо написать в этих книгах. Майский ветер, колышутся шатры чисто-пенных сил. Сокар, сокол на холме, у некрополя, покровитель мертвых. Смотрю в корень, а из него тысяча лучистых дорог в разные стороны. Читаю, печалюсь, фиолетовый занавес отделяет от леса потусторонних растений. Поднимаюсь по ступеням, бесшумно, без перил. Наконец, настало мгновение, звезда безутешных открывателей в ручке Ковша. Последняя ступень, но она рушится под ногой… И лечу вниз головой, лицо – каменный кулак, щели глаз, приносящих клятву. Сияние, боль, имя. Гаснущий кусок грозно-звездного неба в голове. Отцветающая роскошь, пройти через все коридоры, по обеим сторонам двери, как в гостинице; за каждой дверью другая, неизвестная моя жизнь. Прямое, как струна, соединение. Поющая струна, ее союз с каким-то неизвестным, потаенным словом. Без этого слова не поется и ничего не понять. Но как только приближаешься к нему, оно тут же ускользает, разветвляясь на тысячи лабиринтов, все запутанней, все сложнее. И я вижу: это лабиринты моих же нервов, через них бежит ток первоначального, творящего Звука. Австрийский архитектор и живописец Хундертвассер строил дома-цветы, рисовал непрерывную линию, желая закончить ее спиралью, устремленною в неизвестность. Завещал похоронить себя в Новой Зеландии, без гроба, без одежды, под деревом, чтобы его тело питало это дерево. Земля – святое. Роберт Флат, «Великая тьма», черный квадрат масонов, дракон Китая. Оливер Мессиан, «Квартет на конец времени», сочинил в концлагере. Я хорошо помню эту ночь: сияющую Прагу, какие-то мосты, сады, свое одиночество. Фиксация взрыва сердца на бумаге, проявленность бури, эти гравюры писем, глубоко врезанных в медную доску времени, эта стая из двадцати зигзиц, зовущих князя на Дунае. Ухожу один, не прощаясь, не оглядываясь. Белопенные шатры цветущих яблонь над обрывом, этот благовонный угол на незнакомой земле, и соловей щелкает, где-то совсем близко, и эта теплая мглистость, облачность, ветер. Четверг, фронтовик, Забежинский, 95 лет, поет, солдаты – белые журавли. «Вот, все, с кем воевал, никого уже из них нет, я один остался, и сам не знаю, зачем я еще живой». Суббота. Уехал – от себя. Куда мы идем? Всегда – к родному дому. Цвет отчаянья – белое. Всплеск перед занавесом. Из каждого моего слова глядит череп. Звон крови гаснет, вечер. Там, по ту сторону зеркала – тьма, кромешная, ничего там нет. А здесь и сейчас идет дождь, тихий, теплый, майский дождь, и каждая капелька – зеркальце, и в ней, дрожа от счастья, отражается весь мир. Дуновение новых душ из будущего. На каком лепестке оборвется разговор? Чёт и нечет, самозарожденье.
Звук стеклянной бутылки о камень, из ниоткуда и в никуда, шумерская песня «Гильгамеш и Небесный бык». 27-е, праздник города, 313 лет с основания Петербурга. Медный Всадник – мы все находимся в вибрации его меди. Петербург лежит почти на 60 параллели. Эта параллель – критичная для самого существования человека. У живущих на ней состояние психики все время напряженное, тревожное, сон сбивается. Границы реального и потустороннего размыты. Невротическое состояние, напряженное ожидание неизвестного, неопределенность границ возможного и невозможного порождает пограничные феномены психики, близкие к галлюцинациям. Подходим, белая сирень у парадной. Нас ждут, мать и дочь. Стол накрыт. Жизнь двух женщин.
Во сне явилась строчка, боялся забыть. «Вошел в лес: клещи, пауки, змеи». Ну и зачем мне она? Мелькнуло что-то за стволами, что-то невыразимо чудовищное, будто бы вдруг увидел изнанку всех вещей, их неизвестную, всегда скрытую оборотную сторону. Больше одного мгновения видеть «Это» невозможно, человеческий мозг не выдерживает: умрешь или сойдешь с ума. Уехала куда-то, ничего не сказав. Грядет похолодание, температура снизится сразу на десять градусов. В Европе наводнение, Париж затоплен, из Лувра вывозят картины. Вышел в сад, ветер, петух поет, где-то далеко; или поезд, жалобный голос, печальный труженик железных дорог. Вот я стою тут, в этой случайной точке, а ко мне летят со всех сторон, отовсюду, со всех уголков Вселенной всякие звуки и разные мысли. Это я их притягиваю, я чем-то их привлекаю. Наверное, какое-то излучение, дрожь, вибрация. Какая-то потаенная косточка светится. Времечко-семечко. Демокрит, атомы и пустота. Титанические тела облаков. Запах персидской сирени на пустынной улице с неизвестным названием. Брожу весь день, то молчалив, то весел вновь, музою взлелеян. Шиповник у реки, алые всплески, гул пчел, своеструнно. Есть слова как бы и не слова: полуслова, полушорох, полусвет. Тоска осужденных планет. Полурыба, полуптица. Мрамор форм, пробегают голубые искорки, расколотые куски сахара в темноте. Поэты пишут не для зеркал. Бар в Фоли-Бержер. Гуляли в Михайловском саду, холод, дождь, фигуры из цветов, замерзли. Вы никогда не видали красного цвета, а я вам буду говорить о нем. Из дневника Достоевского. Бальмонт, весь мир есть изваянный стих. В 70 лет умопомешательство, психиатрическая больница, буйные припадки, вдребезги разбивал мебель, гнул переплет железной кровати. Отвращение к еде, еле могли уговорить съесть ложку жидкой каши. Забыл все языки, которые знал, забыл все свои стихи, утратил все свои огромные знания, забыл всё. Потерял способность писать и читать. Полнолуние, мать всех живущих. Сломать закостенелую привычку жить, перелом, крушение, катастрофа. И семь воздушных ступеней моих надежд не оправдали. О белая Леда, твой блеск и победа! Не я мыслю словами, слова мыслят мной. Слова говорят что-то без слов, чем-то несловесным. Это они говорят душой, это душа слов говорит. Душа слов бессловесна. Душа слов – это Душа мира, мировая Душа, Anima mundi. У шумеров истинная ученость – знание заклинаний, искусство магии. Загробная жизнь жалка и бестелесна, мрак и уныние. О сестра моя, посмотри: я лежу в прахе, и мне никогда не подняться с этого черного ложа. Все труды шумеров анонимны, неизвестно имя автора ни одного из дошедших до нас великих произведений. Подражание образцам, копирование древних текстов – вот что шумеры считали задачей писателя. Оригинальность и новизна их не вдохновляли. Шумерский художник не стремился к свободному творчеству, его заветной целью было скопировать образец до мельчайших деталей. Он – ремесленник, его личность ускользает от него самого. Шумеры устанавливали статуи в таких местах, где их невозможно было увидеть, зарывали в основание храма. Достаточно того, что их увидят боги. Человеку их видеть незачем. Маска быка с бородой, найденная в городе Ур. Когда вверху. Энума Элиш. Нашествие улиток, весь сад заполонили, большие и маленькие, и совсем крохотные, с букашку. Божьи создания, как ими не любоваться. У них такие нежные, беззащитные тельца и чуткие рожки. И они носят у себя на спине свои изысканно раскрашенные, витые домики и кибиточки. Я бы отдал все на свете за то, чтобы хоть раз взглянуть их глазами. Но мир не стоит на месте, завтра уже все изменится, опустеет сад, и мы уедем, забыв наши заветные желания, забыв что и как, и откуда, забыв всё. И кто-то крутит калейдоскоп злополучных историй.
Стол в саду, день жаркий, душный. Встреча. Столько лет! Седая, а глаза те же, смеющиеся карие вишенки. Время золотое. Когда же жизнь прошла? Едем, а там-то что делается, посмотри! Ураган разыгрался, дождь хлещет в стекла вагона. Любая попытка анализа и истолкования произведений художественного творчества вульгарна и отвратительна. Карл Блум. Где-то я слышал это имя, цветок, певец. Все как-то устроено и в то же время никак не устроено, а только как-то неизвестно строится, может быть построено или само построится, непредсказуемо. Ничего мы не знаем, а знает пчелка и цветок акации; они из масонов, когда они встречаются, то один говорит: «Бояз», другой отвечает: «Яхин». Третий день беспрерывный дождь с ветром. Сад залит. Крыша протекает, подставили тазы. Молчим, как будто у нас обет молчания, кольцо во рту. Голый по пояс, в одном башмаке, с закатанной по колено штаниной на левой ноге, глаза завязаны, грудь исколота циркулем до крови. Ляг в гроб и полежи в нем часа три, мертвым, и тебе дадут новое имя. Проснулся посреди ночи от внезапной боли, сердце как будто шилом пронзило. Это мой зеркальный двойник смертельно ранен в грудь на другом краю Вселенной. Глубокая еще дымится рана. Эйнштейн, близнецы кванты. Боже, как все запутано, перепутано в твоем мире! Есть ли в этом хоть какой-то музыкальный или ритмический смысл? Тогда бы я еще мог утешиться, проснуться от мертвого сна в долине Дагестана и написать стихотворение, от которого бы содрогнулись сердца. Встречал на платформе. Вышла из вагона, усталая, сутулится. Говорит, что едва уговорила себя уехать. Так бы и осталась в городе. Гром гремит устрашающе, туча наползает, черная-черная. Лежу мертвый. Мимо проносятся, гремя, вихри ночных электричек. Ты взошел на корабль, совершил плавание, достиг гавани: пора сходить. Или промысел, или атомы. Скоро ты забудешь обо всем, и все забудут о тебе. Брезжит во сне лунный корень слова. Пробую писать изнанкой языка, но все рассыпается, не та алхимия. Жди ясного на завтра дня. Идем к реке, стала жаловаться: «Скажи, что мне делать? У меня постоянно тоска, жуткая тоска, я с ума схожу. Может быть, я уже сумасшедшая, и мне нужно лечь в больницу? Принимать какие-то успокоительные лекарства для психически больных?».
Приснилось, что не могу вспомнить имя шотландского поэта. Пробудясь, вспомнил: Роберт Бёрнс. Подходим к церкви, зазвонили колокола, праздничный перезвон. День святой Ольги. В церкви венчанье. Новобрачная пара. Последнее слово Нижинского: «мамаша» – обращаясь к жене Ромоле, или же звал свою мать. Смерть – отказали почки. Когда заболел, лежа, в бессознательном состоянии танцевал пальцами, изображая танцевальные жесты из балетов. Левой рукой стал исполнять пор-де-бра вокруг головы, как делал, танцуя «Призрак розы». Всего Нижинский танцевал 10 лет, в 29 лет сошел с ума, 30 лет – сумасшествие. Вся жизнь – 62 года. Ученые определили, что человек выражает свои эмоции словами только на 10%. Всё остальное – взглядом, мимикой, жестами, интонацией. Поздно вечером пошли прогуляться к реке. Розовая полоса меркнет. Укорочена струна дня. Безпесенно. Кто даст ми криле яко голубине; и полещу и почию.
Самоосуществление. Капниста я прочел и сердцем сокрушился: зачем читать учился. Кюхельбеккер, десять лет в одиночной камере, изучил древнегреческий, читал Гомера в подлиннике. Изучил английский и читал Шекспира. «Никогда не буду жалеть о том, что я был поэтом. Утешения, которые доставляла мне поэзия в течение моей бурной жизни, столь велики, что довольно и их, и я считал бы себя неблагодарным, если бы требовал от поэзии для себя еще другого чего. Поэтом же надеюсь остаться до самой минуты смерти, и признаюсь, если бы я, отказавшись от поэзии, мог купить этим отречением свободу, знатность, богатство, даю тебе слово честного человека, я бы не колебался: горесть, неволя, бедность, болезни душевные и телесные с поэзиею я предпочел бы счастию без нее». Из письма Кюхельбеккера. Дрожащие напевы. Блеск той жемчужины, недоступный ничьим глазам. Тень и тело, Ахайя, Геликия, море не вернет своих мертвецов. Олимпиада в Бразилии. Всю ночь ливень, потоп. Открыл окно, шум, несмолкаемый, в темноте. Почто ж печальная распространилась мгла? Говорили о повторяющихся снах. Ей долго снился один и тот же сон: будто бы она взбирается по лестнице в старом доме на Римского-Корсакова, а лестница вдруг оказывается без ступенек, какие-то обрывки, обломки, и она в ужасе, никак не добраться до квартиры. И часто снилась та старая квартира. Умер Эрнст Неизвестный, на 96 году жизни. Будут ставить памятник в Екатеринбурге. Приснилось молодое женское тело, я его обнимал, а оно было холодное и безжизненное, как мрамор, и у него не было головы. Четверг. Полнолуние. «Что до меня, я не только догадываюсь, но могу сказать твердо – уверен, что Луна и все тела небесные обитаемы: мне кажется, что это и быть не может иначе». Кюхельбеккер. И думал я, подобно Оссиану, блуждать во мгле у края гроба стану. Горька судьба поэтов всех времен. Вышли смотреть на звезды. Ученые говорят, что такой звездопад – величайшая редкость, впервые за всю историю человечества. Звезды падают дождем, по всему небу, звездный ливень. Феерия. Елизавета Кульман. Сегодня счастие, завтра счастие, помилуй бог, когда-нибудь должно же быть и умение. Суворов. Дай мне себя обнять, добрая, старая летопись, ты, что так уже давно ходишь рука с рукою с временем. Заря-обманщица, два утра персов, фальшивый и настоящий рассвет. Наказание художников, в День Страшного суда они должны будут вдохнуть жизнь в свои творения. Там пишут белым огнем по черному огню, для бессмертия двадцатитрехлетних, Шиллер, трава блестит после дождя, ртутные капли. Моя единственная звезда – смерть, бедняга Нерваль, безумец, принц дураков, повесился на улице Старого фонаря. Ночью свело ноги, судороги, хоть кричи. Тони Крегг в Эрмитаже, скульптуры из стекла, завихрения. Толпа китайцев под аркой Казанского собора, впереди высокий китаец с красным флажком в руке. Гюисманс, рак языка. Карл Юнг, «Красная книга». Еду, за окном летит ржавый лес, конец лета. Создание химер, скрещивание генов мухи и человека. Гены слышат нашу речь и фиксируют в генетическом коде, передавая мутацию дальше по цепочке поколений. Записки Патрика. Жутко кричала в третьем часу ночи. Ей приснился кошмар, будто бы она в гробу, пытается приподнять крышку и никак не может. Зовет на помощь, а никто не отзывается. Третий день в городе. Дождь начался, ночной дождь, его всхлипы и вздохи за окном. Сокровища Мьянмы. Созрело ли ты, ячменное зернышко, для вечной разлуки? Менделеев, мастер чемоданов, бог химии шагает через семь ступеней. Werde der du bist. Но не дается, как назло, твое заветное число. На заливе шторм, водород с кислородом разбушевались. Ольха, вывернутая ладонь, это потаенное серебро, и шелест, шелест. Скрытые сокровища на каждом углу, скрытые навсегда.
Отворяю калитку, она на дворе у рукомойника, в своей толстой шерстяной безрукавке; увидев меня, улыбается. Идем, мглисто, тихо. Вьется путь золотой и крылатый. Церковь в цветах, белые лилии, гладиолусы, розы, хризантемы. Какие мы с тобой непростые, непутевые, все-то у нас трудно и сложно, совсем запутались. А здесь чистые молитвы, и бремя легко. И опять летим, разрывая сердце. За окном вагона закат, пурпурные столбы на горизонте. Говорит, такой закат – к ветру. Вот и проверим завтра. В городе дождь, фонари, мрачно. Еле дотащились с двумя тележками. Возврат в точку. Сплю. Бескрайнее поле злаков-знаков, колеблемое золотыми волнами спелой ржи, их колышет дыхание Бога. И каждый колос полон спелых значений. Наводнение в Приморье. Купили зеленый коврик, в прихожую, положить у порога. Идем обратно, а солнце-то уже зашло, и стало темно и холодно. А час назад, когда сюда шли по Стачек, какой роскошный закатище пылал-сверкал, какое сияние! На прощанье! Ничего, ничего, не будем грустить. Завтра вернется, всё вернется. В божьем мире нет атома, в котором бы не играла радуга и не пел петух, возвещая утро. Разговариваю сам с собой, а кто-то подслушивает, тысячеглазый и тысячеухий. Прячусь от ветра у вокзальной стены, солнце слепит, струна внутри дрожит и сотрясается, отзываясь на какие-то неслышные голоса. Весь я – эта струна, вся моя жизнь – в ней. Мозг состоит на 80% из воды, это в нас Вода мыслит. Тот, Кто создал мрак покровом Своим. Буквы бессмертны. Можно сжечь свиток, но буквы неуничтожимы, они поют на устах Набу, бога писцов. Письмо – это рассеивание букв, из них прорастут новые песни и новые гимны. Снится черная вода, кто-то в халате, с левой полы капает кровь. Дует другому через бараний рог из рта в рот, целитель. Одноглазый сильнее двуглазого. Проглотишь глаз – воскреснешь. И они также пойдут туда, где им написаны дни и времена. Я, Енох, писец Бога, за посмертным столом, передо мной Книга жизни и смерти, прошлого и будущего. Я должен быть здесь, за столом, в полном уединении, только при Боге и слушать Его голос. Пишу в этой Книге то, что мне диктует Бог. Узоры письма возникают на границе двух миров, этого и того, потустороннего. Наша галактика сближается с галактикой Андромеды. Через 4 миллиарда лет мы столкнемся. Тогда ночное небо будет представлять фантастическое зрелище. Приснилось, что я упал в гигантский водопад, низвергающийся с высоких скал. И – чудо! Остался цел! Знаю, висел я в ветвях на ветру девять долгих ночей. Руны найдешь и постигнешь знаки. Явились 18 рун, как только схватил их, умер. Проснулся, пятница, ураганный ветер. Сел за стол. Страшно писать! В каждом слове столько горя и боли, накопленных в мире, что бьет током, как будто попал под провод скорбного и грозного напряжения. Как только я прикасаюсь острием пера к бумаге и начинаю выводить первое слово, так во мне уже кричат все слова со всего мира, всех времен и народов, всех живущих и когда либо живших, взывают ко мне, стеная и рыдая. Они разрывают мне сердце. Невозможно, невозможно сегодня писать!
Клювик уже пробует прочность скорлупы. Скоро вылупится, ураганно, огнь и жупел и дух бурен. Духом бурным сокрушиши корабли фарсийския. Мать-молния держит над головою два зеркала, освещает молнией сердца людей, рождает отмеченных вещим даром. И это она же, мать умерших, ведет их на суд, в зал взвешивания сердца. Соль морей и пыль дорог у нас за плечами. Одетый в Имя щелкает меня по носу, и я, просыпаясь, опять забываю все, что знал. Да, забываю всё, что знал. Собрав с миру по нитке, я опять с пустыми руками, опять ни с чем. Понедельник, едем, оса, Эпиктет, осеннее, желтый центр наших унылых мыслей. Железный запад. Кто-то разматывает два клубка ниток, белый и черный, справа и слева от нас, день и ночь. Мозг – это орган, которым мы думаем, что мы думаем. Барс, пропавший без вести в мексиканских лесах. Тускло, постригся, пошли платить за квартиру. В Орле поставлен памятник Ивану Грозному. Пятница. Умер Алексеев, инсульт. В рай ведет мост Сират, тонкий, как волос, острый, как меч. В сторону он отошел и сел на песок, перед морем, весь красотою светясь. И в Аркадии я, Пуссен. Население Земли – 7,2 миллиарда. Похороны Алексеева, Северное кладбище. Ждем автобуса, замерзли. Смотрим – высоко-высоко в небе летят журавли, два клина, один за другим, их удаляющиеся голоса: «Прощайте, прощайте!». Напротив нас, через дорогу – дуб, еще не опавший, сияющий, еще держит все свои золотые листья. Темная энергия космоса, ничего мы о ней не знаем. У речи четыре степени, они от Брахмана, который мудр и познал их: три степени – тайные и неподвижные, а четвертая – это человеческая речь. Тот, кто искренен в каждом слове, будучи тем, что есть. Эти звуки ускользают от произнесения и начертания, их можно услышать только в глубочайшей тишине души, в молчании. Вечер, сумрачно, дождь, снег, безлюдная улица, лохмотья листьев. Три кошки греются на канализационном люке. Узнаю тебя, Сатурн, глагол времен, пожирающий своих детей. У Слова широкий зев, все поместимся. Франц Кюсс, «Амурские волны», в подземном переходе, слепой трубач. Калека у метро, на обрубке ноги прикреплено зеркало, в нем он видит всё, что происходит на свете, все сокрытое и тайное. В Иерусалиме археологи вскрыли гробницу Христа; найден папирусный свиток, датируется временем первого храма. Сенсация. Свиток выглядит, как комок черной грязи. Проснулся посреди ночи, боль в виске, задыхаюсь, не хватает воздуха. В темноте мерцает стол, лунный кварц, суровый повелитель, призывает к жертвоприношению. Сажусь, начинаю писать на каких-то призрачных листах из тусклых мерцаний. Всё, что я пишу, тут же стирается и исчезает. И я понимаю: всё, что я пишу – это только попытки восстановить целостность, свою и мира. Воссоздать целостность. А она не воссоздается, она опять и опять распадается у меня под пером. Но я не оставляю своих попыток. Я упорен. Мое упорство сокрушит все преграды. Погибну за этим столом, но не оставлю поле сражения. Нет, не оставлю!
Понедельник. Пошли искать поликлинику на Стачек, дом № 142. Метель в лицо. Сюда поплыла Лейли, семь струн у нее в руках, морской конь везет ее, и чистая струя подымается, как знамя. К Элизе, нотная запись, обнаруженная через 40 лет после смерти. Ибо вселенная эта простирается до пределов, до которых простираются слово и образ. Имя и Форма, две великих силы Брахмы. Тот, кто знает эти две силы, сам становится великой силой. Климат, наклон, Гипарх. Метет третий день. Что за звуки!.. аль бесенок в люльке охает, больной. Бес скуки мучит душу. Сегодня ночью гигантолуние, поминание предков. Не пригласить предков за стол – наихудший проступок перед духом. Сядем за этим столом, а стол наш – вся земля, и споем в едином хоре, все живые и мертвые, древнюю песню, сочиненную ветром в поле и волной в море. На этой лютне играют только один раз в жизни. Генрих Восьмой, зеленые рукава. Узнай же себя, испытай себя крепко! Заратустра, не говори, а пой! Умер Фидель Кастро, 90 лет. Вечер, фонари, запорошенные листья на земле, шелест сыплющегося снега. Лицо Олега Когана, бледное, трагическое, с опущенными веками, со скрипкой в безвольно повисшей усталой руке. На дереве Фусан десять золотых воронов, десять солнц. Посланный с небес стрелок И поражает из лука девять лишних солнц-воронов. Среда, снегопад. Просит сопровождать ее, иначе ей одной будет не справиться со своими страхами. С Невского на Малую Конюшенную. Пока шли, и стемнело; мрак, фонари, снег опускается, опускается, как занавес, мягкий, пушистый. Четверг. Ушла на концерт, пусть развеется, а я один побуду. Костер из соломы на льду пруда, танец с алыми гиацинтами. Стою, смотрю на это зрелище в сумраке зимнего вечера. Только бы в эту ночь не мучиться, не думать о безвозвратном и спать спокойно. Мозг в спокойном состоянии голубой, во взволнованном – красный, как кусок раскаленного железа. Кристалл человека, октагон, меркаба, служитель священного воображения. Просветление во облацех. Красота в деснице твоей, Гермес. Тибет брезжит, свод из цветного стекла, белый луч вечности. «Книга о развязывании узлов». Что ж, пора нам, времечко-семечко, развязать эти узлы. Вижу перед собой образ другого себя. Этот другой стоит на последней, седьмой ступени; он смотрит на меня с высоты лестницы грустным взором. Он прощается. Он говорит: книга написана. Книга для всех и ни для кого. Твоя и моя, наша с тобой книга. Поворачивается спиной и уходит в нее, в книгу, в ее призрачную, мглистую даль, и там исчезает.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

