Внутри зеркала
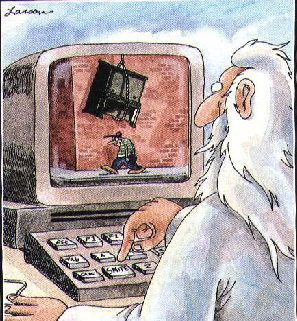 |
Есть кино для тела и ума, для глаз и сердца, для орангутангов
и вундеркиндов, большое и не очень. Но есть кино, о котором не
спорят — его просто смотрят или... пока не умеют.
«Я больше мертвецов о смерти знаю, Я из живого самого живое. И — боже мой! — какой-то мотылек, Как девочка, смеется надо мною, Как золотого шелка лоскуток».
Арсений Тарковский
По пыльной дороге движется сутулый человек в черной рясе. Он существует
словно бы вне времени, ибо все, что происходит вокруг него, вечно:
льется кровь и время без Бога, люди борются за землю и трон. Человек
в рясе сосредоточенно молчит о чем-то, будто немой. Да и зачем
ему слова — за него говорит то, что он создает. Он идет навстречу
нам. Его зовут Андрей.
Непостижимым образом целлулоид обретает качество вечности. Как
это происходит? В чем секрет? Ответ знал лишь Андрей Арсеньевич
Тарковский.
Его фильмы завораживают, пугают, живут сами по себе. Они темны,
как война (прежде всего - в душе) и светлы, как воспоминание о
прошедшей любви. Но они никому ничего не навязывают, не несут
ярко выраженной идеи, как всякое истинное произведение. Тарковский
вряд ли учит — скорее открывает что-то в тебе. Вряд ли согревает
— скорее окунает в ледяную прорубь. Вряд ли дает ответы — скорее
ставит вопросы, и тебе лично в том числе.
По большому счету, именно он впервые доказал, что кино может (хотя
и не должно) быть великим искусством, равным книге, картине и
даже (не убоюсь этого слова) иконе. А как же Феллини, Куросава?
— спросят некоторые. Да. Безусловно. Но они доказали это избранным,
Тарковский убедил всех.
Скажу, перефразируя Набокова: истинная жизнь режиссера — это его
кино. Говорю к тому, что целью статьи является отнюдь не жизнеописание
гения. Хотя, например, мало кто знает, что в юности Андрей был
типичным неформалом (тогда это называлось «пижон»), в школе появлялся
редко, общался с «сомнительной» компанией и с нею же пытался издавать
нелегальный журнал (так демонстративно и озаглавленный — «нелегальный»),
а также, за манеру одеваться не как все и пристрастие к заграничной
одежде, частенько подвергался нападкам чуть ли не как «фарцовщик».
Что когда-то он жил в одной «коммуне» (первые предвестники будущих
хипповских «систем») с Володей Высоцким. Что на его могиле под
Парижем написано: «Человек, который увидел Ангела»... Но речь
не о том. Хотелось рассказать о зазеркалье Тарковского, о магии
и Боге, спрятанных в его картинах — о моем Тарковском.
Определение картина, наверное, во всех смыслах применимо
к работам режиссера. Он именно рисовал, создавал живые, дышащие
и трепещущие картины. Перекладывал на язык кино и заставлял материализоваться
реальные художественные полотна Пьероделла Франческо, Леонардо,
Брейгеля и Рублева. Стирал разницу между кистью живописца и кинокамерой.
Его тонкий мир порою нежен, порою жесток (той разновидностью жестокости,
что делает нас чище, прежде окуная в боль), но всегда хрупок.
Иногда кажется, что вот сейчас что-то порвется, не выдержит —
то ли сердце, то ли целлулоидная пленка... Но все течет ровно,
как вода, как музыка за кадром, как вибрации неведомого. Мир пульсирует
потому, что он нужен тебе — ты нужен потому, что пульсирует мир.
Медленные, погружающие в транс, планы Тарковского словно бы берут
за руки наши уставшие души и ведут туда, где что-то брезжит —
туманно, расплывчато... Однако сразу понимаешь, что идешь не зря,
что все не зря. Ты ступаешь по коридорам сознания (вполне
конкретным, зримым на экране), где обитают и детские страхи, и
вера в чудеса, и ты сам — первоначальный, настоящий, свободный
от оков цивилизации и навязанных ею стереотипов, провоцирующих
на бесконечный побег от собственного я. Ты оказываешься,
сам того не замечая, внутри себя. И диалог с режиссером незаметно
трансформируется в монолог твоей же души. Даже предметы Тарковского
обладают душой. Без видимых причин посуда убегает со стола, разбивается,
предостерегая и свидетельствуя о грядущем событии (кувшин
с молоком, падающий и разлетающийся на осколки медленно, мучительно
медленно, как ожидание конца света каждый день, каждый Последний
День). Стены и мебель меняют очертания и сущность в зависимости
от освещения, являются средством выражения чувств (постоянные
диалоги отворяющихся и хлопающих дверей, створок окон с видом
на нескончаемый дождь). Портьеры и шторы открывают ходы в пространстве,
а в зеркалах живет время (скрипучие дверцы шкафа с неизменным
зеркалом, в котором может отражаться все, что угодно,
зеркала, похожие на людей и люди, являющиеся чьими-то зеркалами,
наконец сам фильм, отражающий и проецирующий тебя). И повсюду
ветер — тревожный, как порывы души, разный, как мысли, — ласкающий
деревья и волосы любимой, раздувающий пламя пожара, уносящий в/юность.
И вода: капли с потолка твоего дома, тихо шепчущие — «что-то не
так»; мыслящий океан Соляриса, знающий о тебе все; дождь оттуда,
размывающий твердую суть жизни. Тайная слышимая тишина
природы, наполненная Богом и образами детства.
В любом кинопроизведении Тарковского ощущается божественное
начало. Особенно интересны в этом смысле псевдо-фантастические
фильмы «Солярис» и «Сталкер». В первом бог представлен, как океан,
который взаимодействует с героями, как совесть, являющая во плоти
забытые грехи. Во втором — как место исполнения желаний, достигнув
которого, не знаешь, что попросить, чтобы не навредить близким,
ненароком не разрушить шаткую конструкцию мира. Это притча о корысти,
о постоянных искушениях.
Тарковскому удалось преобразовать в общем-то атеистические произведения
Стругацких и Лема (последний был крайне недоволен преобразованием)
в мистические кино-притчи, пронизанные христианскими мотивами.
«Солярис» и «Сталкер» не приняли и не поняли обе стороны — как
фантасты, так и Церковь; что неудивительно: для первых они были
чересчур богоискательские, для вторых — слишком разили научной
фантастикой. Меж тем, эти эксперименты с жанрами превзошли все
ожидания. Лично я, после очередного просмотра «Соляриса», нахожусь
в измененном состоянии сознания как минимум несколько часов —
мне хочется менять себя, кого-то спасать или хотя бы срочно найти
тех, кому я делал больно и немедленно умолять о прощении.
В обоих фильмах автор оставляет намеренную недосказанность. Он
не стремится доказать наличие Бога — решать тебе. Однако его образы
и намеки более чем красноречивы, хотя и имеют не одно смысловое
решение. Так, девочка-инвалид в завершающих кадрах «Сталкера»,
передвигающая взглядом предметы на столе, может быть воспринята
и как дитя, обретающее силу от Бога (в противовес умствующим взрослым,
ищущим вместо того, кто вечно рядом — мифическое «место исполнения
желаний»); и как жертва мутации, потерявшая в результате экологической
катастрофы способность ходить, но приобретшая при этом паранормальный
талант; а может, и вовсе — стакан движется лишь потому, что рядом
проходит поезд, сотрясая дом. Все как в жизни — тебе не дано знать
наверняка, ты способен только почувствовать.
Тарковского интересовала личность в переломные моменты бытия,
когда слабый по природе человек становится больше, чем он есть.
Зло по Тарковскому всегда бессмысленно — у него ухмылка беса,
играющего в людей, — беса, у которого не выиграешь. Добро же,
напротив, жертвенно — это не милостыня, брошенная мимоходом бабушке
у вокзала; это плата за счастье и жизнь родных — иногда ценой
своей жизни. Герой «Жертвоприношения» (последнего фильма режиссера)
спасает мир от неминуемой гибели и, выполняя данное Богу обещание,
вынужден сжечь свой дом, отказаться от семьи, друзей, речи и даже
разума. Впрочем, как и всегда, мы можем также предположить, что
он и в самом деле безумец, а пресловутый конец света — не более
чем галлюцинация больного рассудка. Тема повтора, цикличного времени,
дающего нам не один, не два, а множество шансов на поступок проходит
сквозь эту картину, повторяющуюся в свою очередь, точно в зеркалах,
в прошлых работах мастера: ты способен спасти мир, переспав с
горничной Марией или пронеся горящую свечу через серный бассейн,
но ты должен при том принести в жертву себя — полностью.
«Я думаю, что нормальное стремление человека,
идущего в кино, заключается в том, что он идет туда за временем
— за потерянным ли, или за упущенным, или за не обретенным доселе...
Время, запечатленное в своих фактических формах и проявлениях,
— вот в чем заключается для меня главная идея кинематографа и
киноискусства». Все творцы пытались и пытаются до
сих пор ухватить вечность за хвост, чтобы продуцировать в ней
себя — Тарковский просто снимал о ней фильмы. Его время растянуто,
текуче, оно очень плавкое: каждый миг важен — он может стать последним,
любой шаг на земле равен шагу в небеса, всякое событие несет сакральный
смысл и повторяется в самом себе.
Андрей Тарковский рассказывал о войне и любви, о памяти и
поиске — Бога, себя. Его фильмы не о конкретных людях и судьбах
— они о тебе. Когда ты видишь в кадре ребенка, путешествующего
во сне в свое прошлое, ты чувствуешь, что это и твой ребенок и
ты одновременно.
Не всякий в состоянии выдержать доведенную до предела тягучесть
Тарковского. Некоторые начинают испытывать «нервенность», а многие
просто прекращают смотреть. Уверяю, терпение будет с лихвой вознаграждено
— после последних титров картины ты встанешь из кресла (если сможешь,
конечно) совершенно иным.
Мягко плачет нескончаемый дождь. По размытой дороге бредет
человек. Сохранив для нас время живых, он уходит туда, где царит
Бог без времени и смерти.
«Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда Я не бегу. На свете смерти нет. Бессмертны все. Бессмертно все. Не надо Бояться смерти ни в семнадцать лет, Ни в семьдесят. Есть только явь и свет…»
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

