Русская война
В трёх типах индоевропейской цивилизации война занимает совершенно
различное место: на востоке война воспринимается как
неизбежное следствие естественных, кармических процессов,
фактического избытка силы и сопутствующей ей агрессии, то есть как
закон природы, в случае войны – как закон природы человека, и,
если посмотреть на историю Индии, то можно увидеть именно
такую войну индусов – войну как проявление силы.
Совершенно другое место война занимает на западе, здесь она – одно
из наиболее полных проявлений человека, так как в ней
задействуется всё представление человека о самом себе как
действующем, активном субъекте: война – это жизнь, преодоление,
расширение, утверждение, возвышение и т.д., и т.д.. История
показывает нам завоевания Александра, крестовые походы, испанское
владычество на море, покорение и разорение обеих Америк,
мировые войны, Ирак и пр..
Для русского типа культуры война – это неестественное состояние
человека прежде всего потому, что она разрушает единство всего
живого, на которое направлено внимание русского человека.
Подавлять, а тем более убивать другого человека, является
разрушением самого главного для русского – человека как жизни,
или жизни самой по себе, собственно жизни.
На западе жизнь воспринимается как максимальное расширение себя
вовне и, следовательно, любая помеха в этом расширении должна
быть устранена, если этому мешает человек, то он должен быть
убит; в этом отношении мушкетёры короля были не более
благородны, чем крепкий орешек или рембо; стоящий на пути должен
быть уничтожен – вот правило запада.
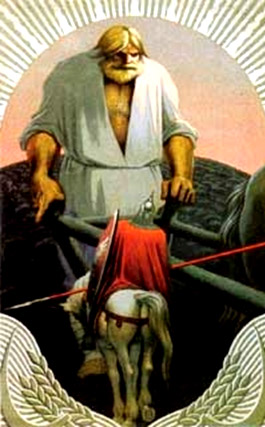 |
Для русского никоим образом не может являться правилом подавление
или убийство другого человека, в древности прарусские,
несмотря на разнообразие контактов, ухитрились избежать практически
неизбежного в то время – института рабства.
Это, конечно, не означает, что прарусские и впоследствии русские не
воевали, совсем нет; здесь рассматривается, что такое война
для русских как живых.
Намерение пре-бывания в стихии жизни как стихии творения всего
является определяющим намерением прарусского и русского человека
(как типа), соответственно этому намерению война может иметь
смысл для русского человека прежде всего как защита
возможности этого намерения, защита и сохранение государства,
территории, людей.
Поэтому русско-японская, белофинская, первая мировая, афганская и им
подобные войны не конгруируют с русским типом и не могут
быть ни успешными, ни памятными, ни каким-либо образом
определяющими для русского человека, тогда как две отечественные
войны сохраняются в памяти культуры и людей, и в моей, в том
числе, как нечто особенное, незабываемое, необыденное, как
говорят некоторые – святое, но лучше сказать – священное (это
слово не так религиозно, что позволит рассмотреть эти войны
сами по себе, без дополнительной нагрузки истории, религии,
политики).
Здесь будут рассматриваться две отечественные войны как русские,
остальные не будут учитываться в силу их несоответствия
русскому типу, но о них достаточно просто можно будет рассуждать на
основании рассмотрения русских войн.
Понятно, что при направлении внимания на русскую войну прежде всего
появится представление о победе, однако первое не означает
правильное, представление о победе не может служить
определяющим в рассмотрении русской войны, так как исход войны не
меняет её содержания, поэтому пока отвлечёмся от результата и
обратимся к тому, что же такое русская война.
Следующим появляется представление о прямой агрессии: военном
вторжении, открытом намерении покорения по отношению к русским;
это кажется очевидным, но на самом деле требует более
тщательного рассмотрения, а именно: поскольку большинство населения
как во время первой, так и во время Второй Отечественной
войны находилось в жестких условиях монократии, или
властократии (русская государственность представляет собой особый тип,
не похожий ни на западный, ни на восточный, но здесь не об
этом), то само по себе военное вторжение не могло быть
причиной своеобразия восприятия этого вторжения как начала особой
войны, вполне могло оказаться, что новая власть не будет
такой жесткой, как предыдущая, русский человек не менее
практичен, чем, например, западный, и вполне способен понять это.
Мамардашвили считал, что во Второй Отечественной русский (как тип, а
не национальность, конечно) находился между двух огней –
немцев перед собой и своих позади, но это тоже не показывает
мне, что же такое русская война.
Вторжение не посягает на свободу, так как её и так нет, лозунги сами
по себе никогда не имели силы, власть так далеко, что
неотличима от другой власти, в этом отношении Пётр или Николай
гораздо ближе Наполеону, чем русскому крестьянину, – поэтому
что-то другое определяет восприятие войны народом (как
носителем культуры), но что?
Может быть, вера или идеология? Но французы тоже были христианами, а
расовые теории нацистов были не более нелепыми, чем мировая
революция пролетариата, так что смена разновидностей одной
и той же веры и смена одной нелепой идеологии на другую не
могут стать феноменами истории живого; что же имеет решающее
значение, пока не вижу.
Сохранение национальной идентичности не было приоритетом для русских
ещё задолго до всяких войн, прарусские совершенно спокойно
уживались не только с народами одной цивилизации, но и с
народами других рас; а ощутимая разница в национальной
идентичности между первой и второй отечественными войнами снова
указывает на наличие каких-то других признаков их родства между
собой.
Также не подходит для этого и отношение захватчиков к мирному
населению, так как до 41 года и после население истреблялось без
всякой войны, но этим размышление показывает мне, что никакие
отрицательные характеристики и особенности войны не
раскроют заданную тему, не покажут мне, что же живёт всё время во
мне как некое особое отношение к отечественным войнам.
Размышление разворачивается от вопроса: что заставило русских так
воевать, к вопросу: что для русского живое в войне? Защита и
сохранение жизни вряд ли являются определяющими для русского,
так как именно жизнь и терялась в войне, государственность
никогда не была для русского человека предметом
непосредственно живого внимания (я имею в виду русского до Первой и
Второй Отечественной, так как после них он в этом отношении
определённым образом изменялся), как и территория (для этого
достаточно упомянуть территориальные изменения после первой
мировой).
Все эти факторы не дают понимания русской войны: ни победа, ни
государственность, ни территория, ни вера, ни идеология, ни
национальная идентичность, ни самосохранение не являются
причинами особенности русских войн; так что когда я слышу о том, что
весь народ поднялся на защиту и т.д., то я понимаю, что мне
внушается удобное, но не действительное понимание моей
истории и меня самого как живого.
Так что же делает меня как русского живым в войне?
Что не даёт мне покоя, как и героям «Белорусского вокзала», которые
собой испытали это и отчаянно пытаются сохранить?
Это точно не намеренное жертвоприношение Шепитько: намереваться
убить, чтобы принести себя в жертву, не характеризует русского
человека.
Это точно не подростковые эскапады, квазиофицерская честь, родное
пьянство, напыщенность власти и прочее Михалкова, который о
русских знает только то, что это всё-таки должно что-то
значить, только ему и всем вокруг него непонятно что.
Это не сражение за родину, хотя для самого человека это наиболее
близкое и сильное переживание. И т.д., и т.д.
Нет, я не об этом, всё это никак не резонирует во мне, изнутри меня
не поднимается ничего при таком рассмотрении войны; здесь
меня не интересует, как русские убивают и защищаются, меня
интересует, как русские живут войною!
Я понимаю, как живёт войной Александр или Наполеон, для них война –
средоточие жизни, так как именно в войне они максимально
расширяются, раздвигают границы собственных возможностей, и
территориальные границы – во вторую очередь, как следствие
случившегося расширения; я понимаю, как живёт войной Дарий,
могущество которого преодолевает все предоставленные ему
историей границы.
Но совершенно особенно живёт войной русский; и первую, и вторую
войну назвали Отечественной, может быть, это поможет? Но спасать
Отечество точно значит воевать, но ещё не значит жить
войной; попробую по-другому: необходимо спасать отечество,
отчество, отцовство, то есть необходимо спасать то, что, если ещё
и не утеряно, но точно теряется!
То есть война является возможностью спасти то, что без неё уже
спасти невозможно! Чего нет у русских людей в мирное время, и что
появляется в военное? Свободы действовать, пространства
проявления, топоса намеренной активности, возможности
реализации способностей! Но, конечно, не в западном смысле, русские
не бросились в военное время делать состояние, или
коллекционировать побеждённых и пр., совсем нет.
В войну у русских появилась возможность быть тем, чем они являются
как действительно живые, пре-бывать в жизни как стихии
становления, намереваться быть живым! Для русских это очень редкая
и уникальная возможность; в истории я наблюдал лишь три
такие возможности:
- После введения христианства в протороссии население не могло принять его как свою собственную религию до тех пор, пока само не оживило его; власть (в своих целях) всячески способствовала христианизации и именно это создало действительную возможность для людей жить религией, для проявления себя. И русские оживили христианство до такой степени, что оно стало угрожать монополии власти как реальная живая сила; в результате церковь была лишена патриаршества и пр. При этом, конечно, не надо думать, что русские создавали христианство как некую общественную силу с конкретными социальными задачами и пр., хотя, разумеется, и это имело место, но было не определяющим.
- Во время вторжения Наполеона была затронута значительная территория России и, самое главное, властью была дана возможность народу на самостоятельное действие (по спасению отчизны). К этому времени уже чувствовался упадок русского духа, точнее, отчётливо чувствовалось отсутствие возможности его проявления, так что не вполне было понятно, что от него осталось: смутное время, ополчение Минина и Пожарского, Пугачёв и Разин не были до такой степени народны и, что самое главное, ограничивали себя задачами иного рода.
- Вторая Отечественная война также началась с «братья и сёстры», то есть народ – эти самые братья и сёстры, получили максимальный карт-бланш, который они могли получить в условиях властократической системы.
И, как видно из истории, русские вполне воспользовались
предоставленными возможностями для оживления самих себя как русских,
или, выражаясь птичьим языком историков и культурологов, как
носителей русской культуры, на самом деле, человек не носит
никакой культуры, так как просто не может ничего носить
культурного (культурно ещё что-нибудь носить может, а вот
культурного никоим образом, так как человек в культуре не существует
как вещь).
Сначала христианство, а затем две войны стали для русских средством
действительного становления самими собой, средством
реального восстановления прарусского и русского мироощущения.
Русское мироощущение характеризуется обращенностью внимания на
пре-бывание в стихии жизни как стихии дления всего как живого.
Для большинства это всего лишь слова, слова, слова, которым они
могут противопоставить или, наоборот, с которыми могут
согласовать другие слова, слова, слова; но для меня это не слова, это
то, что живёт во мне, или, точнее, в чём живу я, в чём я
чувствую себя живым.
Русские оживляют войну намерением единства жизни – любовью и
непременно сопровождающей её болью, жизнь для русского – это
единство всего сущего в момент, всепоглощающая любовь, и
одновременно разорванность всего сущего в бесконечности этого
момента, невыносимая боль. Это не любовь и боль человека, это
любовь и боль всего сущего, малейшее прикосновение к которой
наполняют человека такой силы переживанием, что от всего
остального человеческого, слишком человеческого практически ничего
не остаётся.
Именно поэтому прикосновение к Отечественной войне наполняет меня
такой силы состоянием, что оно стирает всё остальное как
незначительное, как не имеющее такого значения, будет ли это
победа или поражение, вчера или завтра, со всеми вместе или в
одиночестве.
Русские оживляют себя войной как тем временем, когда им удалось
пре-бывать в своей стихии, в своём отечестве, в любви и боли
всего сущего; отголосок этой любви и боли можно почувствовать
во всём действительно русском: в прозе Шаламова, в
«Белорусском вокзале», в растерянных глазах старика-ветерана, который
может дать только 200 рублей до Тёплого стана, в словах моей
матери: «только бы не было войны», но этого действительного
русского так мало в ходячем замусоленном общественном
российском пространстве.
Кажется, что Вторая Отечественная была последним действительно
русским феноменом, живым русским со-бытием, отходящие от неё
волны слабеют и почти не чувствуются, истинное русское отечество
забывается, но всё ещё оживляет меня отблесками своей
славы.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

