Русская философия. Совершенное мышление 64
Продолжим о сумасшествии.
Западный модус современной цивилизации основан на культуре отдельного,
предметного, которая существенным образом характеризуется тем,
что формирующим переживанием западного индивидуума является переживание
им себя отдельным, выделенным.
Достигнутое, сформированное переживание себя отдельным, то есть
самим собой, отделённым от всего другого в норме необходимым образом
порождает намерение сохранения себя таковым.
Пределом такого намерения является стремление к вечной жизни,
бесконечное дление себя как отдельного; именно этот смысл – вечности
отдельной жизни – и актуализировал запад в христианстве.
Соответственно, прекращение отдельной жизни, или её смерть превращается
в основного врага западного человека; смерть – вот что больше
всего боится индивидуум, полагающий себя отдельным.
Поэтому СМЕРТЬ, точнее, ЕГО СМЕРТЬ становится для человека предметом
страха и даже ужаса.
Его смерть сводит человека с ума. Самое трудное для него – принять
собственную смерть, согласиться с окончательностью своей жизни,
осознать неизбежность своего прекращения, неминуемого конца. Именно
поэтому он так сильно цепляется за представление о вечной жизни
и следующее из него представление о своей вечной жизни.
Кстати, даже представление о вечной смерти не так пугает западного
индивидуума, так как для того, чтобы вечно страдать, нужно как
минимум вечно существовать.
Верующий человек, как бы глубоко или поверхностно он ни верил,
боится смерти как прекращения части себя, но! в то же время как
сохранение другой части себя как вечной.
Ужас же в западном человеке порождает полная, окончательная, тотальная
смерть, полное прекращение существования без какого бы то ни было
сохранения чего бы то ни было, полное ничто себя, небытие себя
как отдельного.
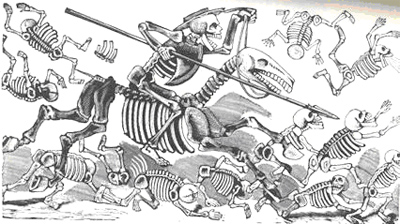 |
Ужас небытия иррационален, нерационален, не поддаётся никакому
осмыслению, пониманию, поэтому совершенно естественно стремление
западного человека максимально расширить горизонт рационального,
отслеживаемого, хоть как-то контролируемого, фиксируемого.
Блаженство бытия и ужас небытия, пафос жизни и отчаяние смерти
с одинаковой необходимостью порождают в отдельном индивидууме
западной культуры манию фиксации.
Манию предметной фиксации очень хорошо иллюстрирует образ доктора
Хауза; интересно, что в сборнике «Хауз и философия» рассмотрены,
казалось бы, все особенности характера, мышления, таланта этого
доктора, все особенности, кроме одной, которая и для авторов является
формообразующей и потому невидимой.
Авторы не задаются воспросом: почему философия доктора предметна?
почему его талант наблюдения, мышления и действия является маниакально
предметным? маниакально фиксирующим?
Человек, переживающий себя максимально отделённым от всего существующего,
находится в стихии предметного взаимодействия, если же при этом
он, как доктор Хауз, максимально освобождён от привычных щитов
предметности – морали, веры, совести и пр., его предметность становится
по-настоящему маниакальной, то есть ему почти ничего не мешает
не только видеть (видят все), но и замечать (замечают и делают
выводы, то есть действуют очень редкие), и действовать так, как
только и можно действовать в предметном взаимодействии – как выживании!
как максимальном удлинении и улучшении существования такого отдельного
предмета, как человек.
Все врут не потому, что люди склонны к вранью, то есть изначально
ущербны, а потому, что сама предметность, отделённость скрывает
в себе причины своего возникновения, так что онкологами становятся
не потому, что хотят помогать людям, так же, как солнце бегает
вокруг земли не потому, что хочет его согреть.
Всё врёт (всё предметное врёт) само по себе, потому что скрыты
причины его возникновения, скрыты в переплетении миллионов сцепившихся
факторов, из которых очень трудно, практически невозможно вычленить
действующие причины, то есть именно то, что стало решающим элементом
случившегося переплетения.
Всё предметное врёт, потому что в сотворённом скрыто творение;
как сотворённый человек сам для себя скрыт и поэтому сам себе
врёт и не может не врать.
Только действуя, человек раскрывается, со-творяется, в том числе
раскрывается для других и для себя, второй раз рождается, узнаёт
себя. Освоение мира и себя через действие – воли, разума, тела,
памяти и пр., становится матрицей западной культуры.
Дело человека – «я сам», это жизнь человека.
Не таков человек востока, даже более чем не таков; переживая себя
отдельным, он как раз эту отдельность переживает как результат
мании, фиксации.
Отдельность своей жизни восточный человек стремится не сохранить,
не продолжить и, тем более, не увековечить, а, наоборот, прекратить.
Само представление о том, что он будет жить вечно, что мания привязанностей
так раскрутит колесо его жизни, что он будет вращаться бесконечно,
переходя из жизни в жизнь… для него ужасно!
Ужас вечной жизни востока прямо противоположен блаженству вечной
жизни запада.
Блаженство выхода из колеса рождений, блаженство окончательной
и полной смерти востока прямо противоположно ужасу смерти запада.
Блаженство востока – прекратить манию привязанностей, перестать
вечно жить, даже жить как свет!
Блаженство востока (нирвана), не-жизнь достигается не-деланием
жизни.
Дело восточной культуры – не-делание жизни, или жизнь неделания,
жизнь с отсутствующим делателем, субъектом, человеком (только
человек может выйти из колеса жизни).
Это не жизнь пустоты, которую так любят приписывать востоку пустые
головы западной и русской философии, а жизнь без делания жизни,
это «мир сам», это жизнь мира.
Обратимся к русской культуре. Развёрнутость русских культурных
матриц к жизни как творению, стихии становления, единству всего
заставляет русских переживать свою отдельность в топосе страха,
пустоты, холода, если воспользоваться переживанием Чехова.
Как отдельный, отделённый (не от других, а) от жизни всего барьером
отдельной жизни русский не может не воспринимать всё как мёртвое,
пустое, страшное.
Ужас русского – в отдельности своей жизни, точнее, в отдельности
себя, потому что он как отдельный не может воспринимать себя как
живым, как живого.
Русский вообще не может воспринимать отдельное как живое, поскольку
для него живым является только жизнь, то есть всё как одно; всё
как отдельное для русского мёртвое.
«…я испытал в первый раз и потому сильнее, чем когда-либо после,
то чувство, которое называют чувством долга, который призван нести
каждый человек. Мне было жалко покидать привычное (привычное от
вечности), грустно было, поэтически грустно… и страшна была та
новая жизнь… на душе было страшно грустно, и я знал, что я безвозвратно
терял невинность и счастье, и только чувство собственного достоинства,
сознание того, что я исполняю свой долг, поддерживало меня. Много
раз потом в жизни мне приходилось переживать такие минуты на распутьях
жизни, вступая на новые дороги, я испытывал тихое горе о безвозвратности
утраченного. …жалко, ужасно жалко, но должно.»
Как точно, как невозможно точно – «привычное от вечности» Толстого!
Очень русское переживание – привычка вечности, но как только она
потеряна, как только ты отделился от вечности, ты «безвозвратно
потерял невинность и счастье».
Нельзя не испытывать горе безвозвратно утраченного, потому что
жить отдельным «ужасно, ужасно жалко, но должно».
Если человеку запада жить отдельным и означает собственно жить,
то для русского жить отдельным стыдно.
Русский сходит с ума, отделяясь; остаться одному среди всего остального
– столь же одинокого – невыносимо для него, поскольку это уничтожает
основу формирующего переживания живого единства.
Отдельное мёртво, пусто, страшно, холодно; для русского сойти
с ума значит – быть вещью среди других вещей, оказаться полностью
погружённым в формы отдельной жизни – пространство, время, мышление
и пр.
Для русского совершенно не обязательно даже особым образом идентифицироваться
– переживать себя испанским королём. Достаточно быть только отдельным,
оторваться от вечности, например, достаточно просто почувствовать
себя ТОЛЬКО учителем гимназии, чтобы на тебя со всей своей очевидностью
и неотвратимой неизбежностью навалился страшный мир вещей, который
можно хотя бы по видимости пытаться переживать живым, только заключив
и мир, и себя в футляр правил.
Сумасшедший русский – это тот, кто верит миру вещей, кто ограничивает
себя им, кто погружён в формы отдельного, это шариков, не знавший
вечности, не имевший опыта единства живого, потому что создан
соединением вещей.
Если западный человек не может не искать истину в вещном мире,
не может не выделять некие вещи как особые, как сверхвещи, супервещи
– святой грааль, или скорость света, или институт собственности,
то для русского ни одна вещь не может обладать особым значением,
русскому всё (предметное) равно, потому что одинаково мёртво,
никакая вещь не может быть более живой, чем другая.
Поэтому русский сумасшедший – это тот, кто «открыл» истину в вещном
мире и «несёт» её людям, например, тот, кто полагает, что бедные
отличаются от богатых особой мудростью, или, наоборот, кто полагает,
что богатые обладают некоторыми культурными ценностями, которые
необходимо привить народу, поэтому богатые должны нести образование
бедным.
Более радикальные сумасшедшие, как Чернышевский, полагали, что
достаточно избавиться от богатых, чтобы вещный мир стал справедливым,
или, как надеялись коммунисты 20-х, что достаточно выслать из
страны не так мыслящих, чтобы оставшиеся так уже не мыслили.
Современные русские сумасшедшие продолжают дело прежних, например,
современный русские философы вдалбливают нам свои представления
как вещую истину, как особые слова, точно так же как политики
навязали нам собственность, рынок и конкуренцию как истину первой
инстанции.
Их сумасшествие в том, что они нечто считают особой истиной, обязательной
для всех правдой, необходимостью бытия для каждого, совершенно
забывая при этом, что в русской культуре ничто отдельное, ничто
отделённое, ничто предметное никогда не было и не будет, пока
жива русская культура, обладать особым, истинным значением.
Раз нечто отделилось, определилось, опредметилось, значит оно
уже выпало из приоритета русского внимания, оно перестало находиться
в поле становления, в стихии творения, и, следовательно, на него
не может быть направлена воля русского человека!
Всё предметное не подчиняется воле русского и поэтому не может
иметь для него никакого значения, тем более, значения истины.
Если для западного человека мир вещей – стихия жизни, вызов, горизонт
возможного, то для русского – это ужас небытия, собственно смерть,
мертвечина.
Акакий Акакиевич спасался от сумасшествия письмом, в его отдельности
сохранилось окно вечности – жизнь букв.
Вихри и ураганы русского сумасшествия всегда поднимаются во времена
разделения русских – на богатых и бедных, образованных и тёмных,
монархистов и социалистов, правых и левых; верным признаком русского
сумасшествия является отчаянная борьба с чем-нибудь – пьянством,
коррупцией, воровством, ведь борются с тем, чему придают особое
значение, однако в русской культуре воля человека не распространяется
на отдельное, уже отделённое, поэтому такая борьба заранее обречена
на полный провал, тем более, что часто это всего лишь прикрытие
для других дел, отвлекающий манёвр или что-нибудь в этом роде.
Для того, чтобы не сходить с ума, русским надо всего лишь не отвращаться
от собственных культурных матриц, а ещё лучше – развивать их намеренно,
тогда НИКАКОЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ не будет иметь решающего
культурного и, следовательно, политического, экономического, общественного
и какого бы то ни было ещё значения.
Вообще наличное положение вещей, имеющее решающее значение для
западной культуры, для русской культуры не важно, мы не живём
валовым национальным продуктом, повышением производительности
труда, свободным рынком, конкуренцией, дефицитом или профицитом
бюджета, свободной прессой или судом, а уж тем более думой или
правительством.
Когда-то, во время, которое мы уже не помним, но которое помнит
нас в нас, по привычке от вечности, мы жили стихией единства всего
как живого.
Когда-то, во время, которое мы не помним, но думаем, что помним,
мы жили стихией единства всего как любви.
Когда-то, во время, которое мы и помним, и думаем, что помним,
но не понимаем, мы жили стихией единства всего как слова.
Когда-то, во время, которое, как нам кажется, было ещё вчера,
и которое мы и помним, и знаем, и понимаем, но до сих пор не можем
отделить от себя и поэтому увидеть его как есть, мы жили стихией
единства всего как нашего намерения!
Наступает новое время, и оно станет нашим, если мы не сойдём со
своего ума, который рождается в намерении того, кем мы хотим стать:
если мы вознамеримся сойти со своего ума в мире вещей, то будем
жить в пустоте, холоде и страхе вещей; если вознамеримся остаться
в своём – русском – уме, то будем жить умом своего намерения.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

