«Философия искупления» Филиппа Майнлендера в свете философии сверхсознательного
\Филипп Майнлендер. Философия освобождения. Перевод: С.П. Колбасов. 2022.\

Бог умер, и его смерть стала жизнью мира.
Филипп Майнлендер
В 2022 году наконец-таки увидел русскоязычного читателя magnum opus немецкого философа Филиппа Майнлендера (урожд. – Батц) «Философия освобождения» (по-другому – «Философия искупления») – труд, до последнего пребывавший в безвестности на территории России, но и за ее пределами имеющий достаточно трагическую судьбу: имя Майнлендера если и знакомо, то лишь узкому кругу историков философии, которые в лучшем случае упомянут в его лице «последователя Шопенгауэра», при этом не удосужившись сколь бы то ни было подробно распространиться о сущности его философского миросозерцания. Столь удручающую картину дополняет тот факт, что сам Майнлендер разделил со своей книгой ее трагическую судьбу, устремившись в тихую ночь небытия через повешение (примечательно, что «философу искупления» подставкой послужила стопка только что отпечатанных в типографии экземпляров книги). Правда, в истории философии есть другой пример мыслителя, покончившего с собой после выхода в свет его magnum opus: я имею в виду Отто Вейнингера, только если Вейнингер добровольно ушел из жизни на волне популярности его монументальной работы «Пол и характер», то Майнлендеру не пришлось даже дожидаться того, чтобы труд его жизни увидел свет, как если бы он предвидел, что труд этот обречен на безвестность.
Впрочем, абсолютно безвестной «Философию освобождения» назвать нельзя: среди мыслителей, испытавших на себе влияние Майнлендера, обычно называют Фридриха Ницше и Эмиля Чорана. Только если Чоран – пожалуй, самый беспросветный из всех пессимистов в истории человеческой мысли – по праву может быть отнесен к числу мыслителей, поддавшихся очарованию светлого безумия автора «Философии освобождения», то считать Ницше испытавшим на себе влияние Майнлендера можно лишь с натяжкой, точнее, в чисто отрицательном смысле, ведь если у Ницше «смерть бога» – не более чем фигура речи, символизирующая крушение системы ценностей, господствовавшей в Европе на протяжении всех Средних веков и (отчасти) Нового времени (почему Ницше по праву считается провозвестником так называемого постмодернизма), то у Майнлендера это – констатация метафизического факта, что само по себе упреждает его от упреков в том, что, провозгласив еще до Ницше «смерть бога», Майнлендер преследовал своей целью лишь интеллектуальную провокацию, рассчитанную на то, чтобы скандализировать читающую публику. На этом различие между Ницше и Майнлендером отнюдь не заканчивается: если Майнлендер – философ-моралист в духе Канта и Шопенгауэра (свою «философию искупления» он позиционирует как «продолжение учений Канта и Шопенгауэра»), то Ницше известен как раз таки своим опытом «переоценки всех ценностей» и утверждением высшей точки зрения «по ту сторону добра и зла», что, в свою очередь, сыграло злую шутку с провозглашенным им идеалом «сверхчеловека», поскольку идеал этот приобрел черты самого настоящего бестиализма – прообразами «сверхчеловека» у Ницше явились пресловутая «белокурая бестия» (почему Ницше не без оснований считается предтечей нацизма) и моральные уроды по типу Чезаре Борджиа; далее, если Майнлендер позитивно расценивает христианство как религию «утверждения воли к смерти», то Ницше, как известно, именно за свойственную христианству «антикосмическую тенденцию» (по выражению Фейербаха) порицал его как декадентское явление, т.е. Майнлендер в своей оценке христианской религии – прямой наследник Шопенгауэра, прославлявшего христианство как раз таки за то, за что Ницше неутомимо его порицает, а именно за его нигилистическое отношение к «миру сему». Единственное, что поистине роднит Майнлендера с Ницше, так это то, что оба мыслителя стоят на стыке целых эпох в истории философии, но этим не отменяется факт того, что между ними имеет место фундаментальное различие.
Если определять Майнлендера как последователя Шопенгауэра, то впору провести параллель между ним и Эдуардом фон Гартманом, но и здесь можно увидеть, что Майнлендер стоит особняком: известно, что Гартмана он расценивал не иначе как «неудачливого эпигона великого Шопенгауэра» (между прочим, весьма распространенный, но при этом крайне несправедливый взгляд), и если Гартман уже при жизни застал колоссальный и к тому же всемирный успех своей «Философии бессознательного», то Майнлендер остался в безвестности как при жизни, так и после смерти. Впрочем, посмертная участь Гартмана, точнее, его интеллектуального наследия сближает его с автором «Философии освобождения», ведь сегодня имена обоих бледно меркнут на фоне Шопенгауэра, до сих пор непоколебимо занимающего первенствующее место в пантеоне философского пессимизма. Майнлендер – столь же выдающийся стилист, как и Гартман: у обоих сквозь ледяные глыбы отстраненной философской рефлексии пробиваются освежающие струи изящного в своей художественности изложения, и это, бесспорно, следует относить на долю влияния Шопенгауэра, всей своей литературной деятельностью последовательно доказывавшего преданность своему убеждению, что философия – это искусство, материалом которого служат понятия, и что философию столь длительное время напрасно искали на тропе науки, вместо того чтобы искать ее на тропе искусства. Если же говорить о недостатках майнлендеровского стиля, то все они, пожалуй, сводятся к одному-единственному пункту, а именно: Майнлендер не столько рассуждает, сколько декларирует (кстати говоря, еще одна черта, которая роднит его с Ницше); он заявляет догмы своей философии как аксиомы, самоочевидные в своей истинности положения, отчего, собственно, его обращение к читателю в целях его убеждения является совершенно бесполезным; его изложение несет на себе неизгладимую печать фанатического воодушевления, даже исступления, свойственного тому или другому даровитому юноше, которому, как ему представляется, открылась высшая истина. Поэтому «философия искупления» с ее основоположениями может звучать убедительно лишь для того, кто изначально относится к ее автору сочувственно, хотя далеко не в этом состоит определяющая причина его интеллектуального одиночества – глубочайшего и поистине трагического. Разительный контраст в судьбах авторов «Философии бессознательного» и «Философии освобождения» объясняется тем, что основополагающая интуиция последнего является настолько же экстравагантной, настолько и отталкивающей в глазах обычного читателя, пускай даже ему свойствен вкус к философии.
Майнлендер – едва ли не последний, наряду с Гартманом, в истории европейской философии мыслитель, отличающийся твердой волей к философскому системотворчеству: «Философия освобождения» изложена как конгломерат отдельных, но при этом взаимосвязанных, пронизанных единой основной мыслью рассуждений на предмет теории познания, натурфилософии, этики, эстетики, социально-политической философии (расширенной Майнлендером до философии истории) и метафизики. В целях настоящего изложения интерес представляют рассуждения Майнлендера именно на предмет метафизики, и если по ходу своего обзора я буду касаться других аспектов его учения, то исключительно в контексте собственно метафизических его рассуждений.
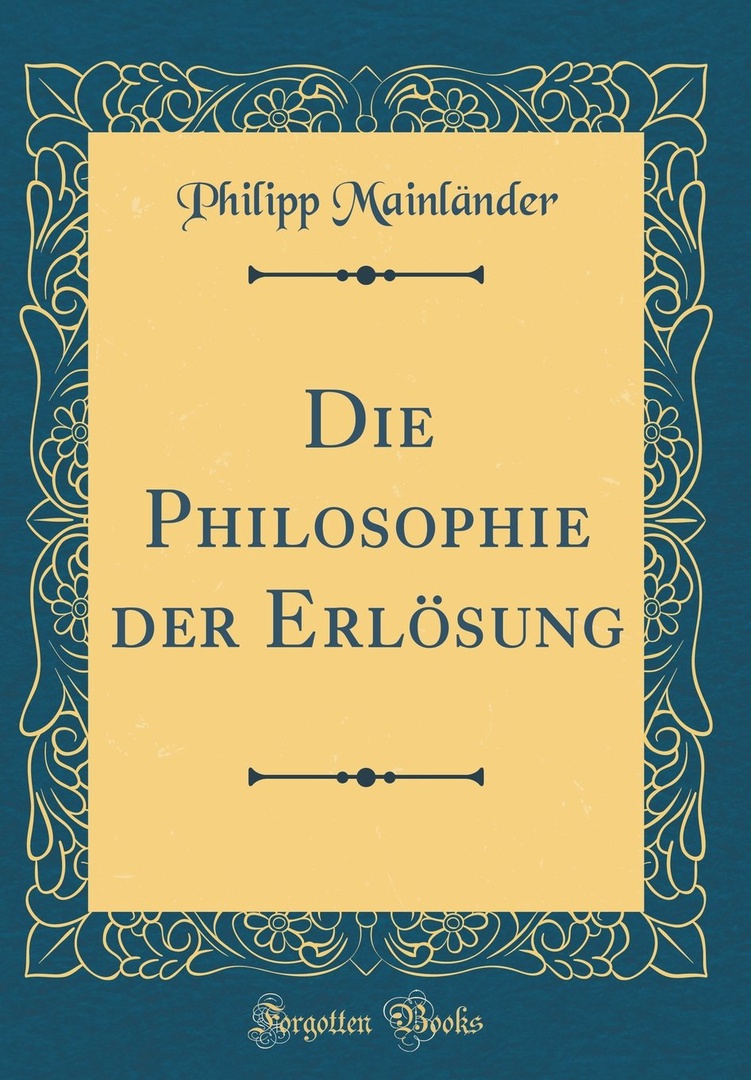 Примечательно, что сам Майнлендер позиционирует свою «философию искупления» как «имманентную философию», причем в кантовском смысле этого слова, т.е. задача философии, по Майнлендеру, состоит в том, чтобы бросить на мир такой взгляд, который, имея своим отправным пунктом данные внешнего опыта и самосознания, не выходил за пределы опыта, но, оставаясь в его пределах, давал ему определенное истолкование. От себя замечу, что философ-метафизик (каковым, бесспорно, Майнлендер и был) не может быть чисто имманентным философом, и если он, будучи наученным критицизмом Канта, не может переступать линию демаркации (пограничную линию между имманентностью и трансцендентностью) с намерением удариться в необузданное трансцендентное фантазерство, воспарив на крыльях чистых, не основанных на опыте понятий, то, ввиду метафизичности его устремлений, единственное, что ему остается, – это, неспешной походкой шагая по хрупкому мосту, им же самим проложенному от имманентного к трансцендентному, не терять равновесие и до последнего упреждать себя от того, чтобы поддаться соблазну впасть в головокружительный бред. Насколько удалось это Майнлендеру – я не берусь судить, но если взять идею фикс его «философии искупления», на которой и основана ее метафизика, то легко увидеть, что в своем намерении создать чисто имманентную философию Майнлендер ударился в крайность, диаметрально противоположную чисто трансцендентной философии, самонадеянно претендующей на то, чтобы аподиктически решить загадку мира. Суть этой крайности состоит в утверждении имманентности без трансцендентности, или, по-другому, в утверждении чистого явления, явления без сущности, и, как ни странно, у Майнлендера этот шаг обоснован тем, что составляет краеугольный камень его метафизики. Бытие мира множественности, образующего царство имманентности, является, согласно Майнлендеру, результатом некой вселенской катастрофы, которую он же сам недвусмысленно определяет как теоцид: «<…> Бог, разделившись на мир, полностью исчез и погиб». Моя задача состоит отнюдь не в том, чтобы безоговорочно отвергнуть данное положение как неистинное, а в том, чтобы, вычленив в нем зерно истины, отвергнуть его как неистинное с указанием на те основания, ввиду которых оно отвергается. И здесь надлежит сразу же отметить, что философема «смерти бога», при всей ее несомненной оригинальности, не отличается абсолютной новизной, и что ее отголоски можно встретить на протяжении едва ли не всей истории человеческой мысли: достаточно вспомнить индийский космогонический миф о Пуруше – божественном первочеловеке, разделение которого и привело к возникновению мира множественности; в христианстве отголоском данной философемы является понятие кенозиса, прообразом которого в акте творения, согласно церковно-христианскому учению, служит искупительная жертва Иисуса Христа; уже в Новое время Шеллинг в своем трактате «Философия и религия» (увы, так и не переведенном на русский язык) прямо основывает происхождение мира множественности на отпадении от абсолютного, и Гегель, в полном согласии с духом философского пантеизма, переквалифицировал отпадение от абсолютного в его самоотпадение. Этого краткого экскурса в историю человеческой мысли достаточно, чтобы признать, что в философеме Майнлендера о «смерти бога» есть зерно истины, и оно состоит в том, что бог разделился на мир, тогда как в том, что он «полностью исчез и погиб», заключается ложь данной философемы.
Примечательно, что сам Майнлендер позиционирует свою «философию искупления» как «имманентную философию», причем в кантовском смысле этого слова, т.е. задача философии, по Майнлендеру, состоит в том, чтобы бросить на мир такой взгляд, который, имея своим отправным пунктом данные внешнего опыта и самосознания, не выходил за пределы опыта, но, оставаясь в его пределах, давал ему определенное истолкование. От себя замечу, что философ-метафизик (каковым, бесспорно, Майнлендер и был) не может быть чисто имманентным философом, и если он, будучи наученным критицизмом Канта, не может переступать линию демаркации (пограничную линию между имманентностью и трансцендентностью) с намерением удариться в необузданное трансцендентное фантазерство, воспарив на крыльях чистых, не основанных на опыте понятий, то, ввиду метафизичности его устремлений, единственное, что ему остается, – это, неспешной походкой шагая по хрупкому мосту, им же самим проложенному от имманентного к трансцендентному, не терять равновесие и до последнего упреждать себя от того, чтобы поддаться соблазну впасть в головокружительный бред. Насколько удалось это Майнлендеру – я не берусь судить, но если взять идею фикс его «философии искупления», на которой и основана ее метафизика, то легко увидеть, что в своем намерении создать чисто имманентную философию Майнлендер ударился в крайность, диаметрально противоположную чисто трансцендентной философии, самонадеянно претендующей на то, чтобы аподиктически решить загадку мира. Суть этой крайности состоит в утверждении имманентности без трансцендентности, или, по-другому, в утверждении чистого явления, явления без сущности, и, как ни странно, у Майнлендера этот шаг обоснован тем, что составляет краеугольный камень его метафизики. Бытие мира множественности, образующего царство имманентности, является, согласно Майнлендеру, результатом некой вселенской катастрофы, которую он же сам недвусмысленно определяет как теоцид: «<…> Бог, разделившись на мир, полностью исчез и погиб». Моя задача состоит отнюдь не в том, чтобы безоговорочно отвергнуть данное положение как неистинное, а в том, чтобы, вычленив в нем зерно истины, отвергнуть его как неистинное с указанием на те основания, ввиду которых оно отвергается. И здесь надлежит сразу же отметить, что философема «смерти бога», при всей ее несомненной оригинальности, не отличается абсолютной новизной, и что ее отголоски можно встретить на протяжении едва ли не всей истории человеческой мысли: достаточно вспомнить индийский космогонический миф о Пуруше – божественном первочеловеке, разделение которого и привело к возникновению мира множественности; в христианстве отголоском данной философемы является понятие кенозиса, прообразом которого в акте творения, согласно церковно-христианскому учению, служит искупительная жертва Иисуса Христа; уже в Новое время Шеллинг в своем трактате «Философия и религия» (увы, так и не переведенном на русский язык) прямо основывает происхождение мира множественности на отпадении от абсолютного, и Гегель, в полном согласии с духом философского пантеизма, переквалифицировал отпадение от абсолютного в его самоотпадение. Этого краткого экскурса в историю человеческой мысли достаточно, чтобы признать, что в философеме Майнлендера о «смерти бога» есть зерно истины, и оно состоит в том, что бог разделился на мир, тогда как в том, что он «полностью исчез и погиб», заключается ложь данной философемы.
При этом необходимо признать, что само понятие о мире множественности как результате саморазделения божества возможно лишь в пантеизме, который, в отличие от теизма, с одной стороны, не удовлетворяет известным потребностям религиозного чувства, но с другой стороны, в полной мере удовлетворяет запросам философской мысли. Ведь если, как это признает и теизм, бог вездесущ, отсюда с логической необходимостью следует, что не мы сами по себе живем и творим, а в нас живет и творит сам бог, ибо вне бога нет и быть не может ничего, а потому все, что ни делается нами, делается не иначе как в боге. Фундаментальный алогизм, лежащий в основе теизма (который, собственно, и делает его чуждым духу истинной философии), заключается как раз таки в том, что, с одной стороны, бог мыслится вездесущим, но с другой стороны, он мыслится как трансцендентная миру сущность, тогда как из понятия вездесущности бога с логической необходимостью следует то, в чем и заключается суть пантеизма, а именно, что бог не трансцендентен миру как отдельная от него сущность, но есть сама его сущность. Понятие Майнлендера о мире множественности как результате саморазделения бога делает его пантеистом, но пантеизм у него тут же переходит в атеизм, поскольку саморазделение бога понимается им как его исчезновение и гибель. Метафизика Майнлендера – это полная несказанного трагизма метафизика мыслителя, в представлении которого мир есть не просто мир, в котором нет бога, а мир, в котором бог мертв.
Сам Майнлендер отмечает, что богословы всех времен и народов, рассуждая о свойствах бога, принимали за непреложную истину его всемогущество, но при этом никому не приходило в голову утверждать, что именно ввиду своего всемогущества бог может уничтожить самого себя. В действительности же это смелое заявление – не более чем дерзкий софизм, ибо философски просвещенное богословие как раз таки предусмотрело тот момент, что всемогущество бога может быть понято в том числе и как возможность для него уничтожить самого себя: бог не может уничтожить себя самого не потому, что в этом состоит ограничение его всемогущества, а потому, что уничтожение, как и возникновение, есть признак изменения, с необходимостью предполагающего время, тогда как бог по определению вневременен (вечен), а если вневременен, то неизменен и поэтому неуничтожим. Намеренно ли Майнлендер игнорирует это соображение или же в силу его незнания – сказать нельзя, но что удивительно, так это то, что Майнлендер сам пользуется доводом богословов об ограниченности всемогущества бога его же собственной сущностью при ответе на резонный вопрос, почему желание бога уничтожить самого себя возымело своим результатом не его прямое исчезновение в ничто, а создание мира. Философию Майнлендера называют философией абсолютного пессимизма, что неверно, ибо точнее ее назвать философией абсолютного нигилизма: если, создав мир, бог тем самым «полностью исчез и погиб», то совершенно ясно, что конечная цель мира – обратиться не просто в ничто, а в абсолютное ничто (nihil negativum).
При этом стоит отдать должное Майнлендеру, что, приходя к понятию бога как простого единства, в котором до бытия мира содержалось все сущее, он рассуждает в духе апофатической теологии, отказываясь давать богу какое-либо положительное определение. Обосновывая всемогущество бога, Майнлендер справедливо определяет его предмирное состояние как абсолютное одиночество: вне бога и до бога не было ничего, что принуждало бы его к тому, чтобы перейти из потенции в акт творения; следовательно, понятие всемогущества лишь внешне составляет положительное понятие, тогда как в действительности это – понятие об отсутствии каких-либо ограничений (за исключением тех, которые вытекают из сущности бога). Если же на это возразят, что, говоря об одиночестве бога, мы тем самым впадаем в антропоморфизм, то в ответ на это следует отметить, что в своем предмирном состоянии бог одинок в том смысле, что для него исключена сама возможность другого, ибо единство бога – это не просто единство, а сверхъединство. Именно поэтому в истории человеческой мысли не так уж и редко причину творения находят в желании бога разделить свое одиночество со своим другим (так, например, в истории русской философии эту мысль активно продвигал Бердяев), но и это – явный антропоморфизм, буквальное понимание которого неизбежно приводит к абсурду, ведь бог абсолютно самодостаточен, тогда как потребность в ком-либо (или чем-либо) другом находится с его абсолютной самодостаточностью в непримиримом противоречии. Отсюда становится ясным, в чем именно состоит зерно истины в мысли Майнлендера о том, что, возжелав бытия мира, бог тем самым возжелал уничтожить самого себя: если предмирное состояние бога есть абсолютное одиночество, возможность и даже необходимость которого обусловлена его абсолютной самодостаточностью, то переход из потенции в акт творения означает самоотрицание бога, явлением которого становится мир множественности, как мир имманентности и относительности.
Также стоит отдать должное проницательности Майнлендера в том плане, что, для того чтобы сделать для себя понятной как возможность, так и действительность мира множественности, мы хотя и можем приписать богу ум и волю, но лишь в символическом, а не в догматическом смысле, или, как выражается сам Майнлендер (следуя в данном отношении Канту), в применении к богу ум и воля могут рассматриваться только как регулятивные, а не конститутивные принципы объяснения, т.е., говоря о боге, мы говорим так, как если бы («als ob» Канта) ему были присущи ум и воля. Если теизм, ввиду необходимо свойственного ему антропоморфизма, не видит ни малейшего затруднения в том, чтобы безоговорочно приписывать богу ум и волю, то философия сверхсознательного, при всем том, что она рассматривает ум и волю как атрибуты бога, т.е. свойства, присущие ему с необходимостью и в этом смысле ему совечные, оговаривается в том ключе, что, подобно тому как мы не можем составить какого-либо положительного понятия ни о бытии бога (которое по этой причине лучше всего определять как сверхбытие), ни о его сущности, точно так же мы не можем составить какого-либо положительного понятия ни о его уме, ни о его воле. Поистине, воля бога не есть такая воля, которая, подобно человеческой воле, определяется представлениями о внешних ей вещах, как целях ее деятельности, ибо такая определяемость противоречит абсолютности этой воли, которая, именно ввиду ее абсолютности, не имеет иного основания хотения, как ее действия, кроме нее самой, или, что то же самое, в своем действии определяется исключительно собой, и поэтому целью такой воли может быть только она сама, или, точнее, ее самоутверждение; если же мы говорим об уме бога, необходимо иметь в виду, что для такого ума нет противоположности субъекта и объекта, представления и вещи, и что поэтому такой ум, представляя вещи, тем самым их творит, причем не как внешние ему вещи, а так, что, творя вещи, бог представляет в них себя же самого. Из такого, чисто отрицательного понятия об уме и воле бога с необходимостью вытекают следующие положения: во-первых, что действие бога есть действие совершенно непосредственное, что решимость действовать равносильна для него самому действию, и что поэтому в действии бога нет различия между потенциальным и актуальным состояниями, которое существует лишь для нашего мышления, с необходимостью представляющего это различие; во-вторых, что в действии бога нет предварительного обдумывания результатов действия с подбором средств, необходимых для его осуществления, и что поэтому воля бога действует не преднамеренно, а слепо, без плана; и в третьих, что представления божественного ума есть не понятия или образы фантазии, которыми бог только предвосхищал бы результаты своего действия, а созерцания, в которых уже состоит его действие, причем как действие его воли. Очевидно, что вышеизложенные соображения не дают нам о действии бога никакого положительного понятия, ибо для нашего ума, как оперирующего понятиями движения и покоя в их различии друг с другом, совершенно непостижимо, каким образом возможно такое действие, которое в то же время есть созерцание, между тем как действие бога именно таково, а потому оно не есть действие в нашем, человеческом смысле этого слова.
Майнлендер утверждает, что мы можем судить только об одном-единственном действии бога, и этим действием как раз и является бытие мира множественности. Это утверждение полностью оправдано в том смысле, что действие бога, само по себе неразделенное, в мире явлений распадается на множественность отдельных действий, которые, в свою очередь, надлежит понимать не как множественность действий отдельных субстанций, а как множественность действий единой причины, каковая причина, ввиду ее интеллигибельности (читай – вневременности), сама не имеет временного места в ряду явлений, могущего продолжаться до бесконечности как a parte ante, так и a parte post. Поэтому происхождение мира (и это признает Майнлендер) неисповедимо, и мы, будучи верными духу критической философии, можем с полной уверенностью утверждать, что, с одной стороны, бытие мира явлений, как царства имманентности и множественности, есть непрерывный творческий акт бога (creatio continua), но с другой стороны, неукоснительно соблюдая различие между интеллигибельной и эмпирической причинностью, не позволяем известным гиперфизическим гипотезам восполнять пробелы в понимании тех причин явлений, которые имманентны опыту, а не запредельны ему. В этом смысле философия сверхсознательного, как и «философия искупления», может быть названа имманентной философией. Только если Майнлендер приходит к совершенно нелепому утверждению чистой имманентности посредством того, что переход из бытия сущности в бытие явления (или, лучше сказать, переход из сверхбытия в бытие) мыслится им как уничтожение сущности, то я, признавая вместе с Майнлендером, что в мире множественности единство и самотождественность бога утрачиваются им, оговариваюсь при этом, что эти единство и самотождественность в мире множественности не уничтожаются. Если выражаться образно, можно сказать и так, что в мире явлений бог, как бы странно и даже парадоксально это ни звучало, пребывает в изгнании от себя же самого, и для того чтобы прозреть здесь видимость парадокса, необходимо остановиться на решении вопроса, следует ли понимать самоотрицание бога в акте творения, явлением котором выступает мир множественности, так, что в отношении самого бога это самоотрицание носит характер субстанциальности. В свете вышесказанного уже ясно, что Майнлендер на данный вопрос дает утвердительный ответ: самоотрицание бога в акте творения тождественно его самоуничтожению, и бытие мира явлений есть, образно выражаясь, развернутое в пространстве и времени разложение трупа бога. Однако же нас должно интересовать, каким образом на этот вопрос отвечает философия сверхсознательного, и ее ответ таков, что самоотрицание бога в акте творения хотя и есть его самоотпадение (или, если учесть образность последнего выражения, самоотчуждение), но вовсе не самоуничтожение.
Тот факт, что философия сверхсознательного в одном акте соединяет творение и грехопадение, полностью оправдан в том смысле, что в противном случае попросту невозможно понять, каким образом возможно, чтобы самоутверждение бога, каковое, ввиду его абсолютной самодостаточности, представляет собою единственно мыслимую цель творения, было вместе с тем его самоотрицанием, явление которого и есть мир множественности. Мы уже признали вместе с Майнлендером, что все сущее предмирно, или, лучше сказать, предвечно, содержится в боге, и что поэтому все сущее принимало участие в акте творения, который, соответственно этому, есть не просто единый, а всеединый акт. Подобное утверждение имеет смысл лишь при том предположении, что бог не трансцендентен миру как отдельная от него сущность, но имманентен ему как сама его сущность, но если так, если отделение творца от твари столь же произвольно, как и отделение твари от творца, то необходимо признать, что творец и тварь едины друг с другом в своей ответственности за творение: как мною уже отмечалось в другом месте (см. «”Философия свободы” Шеллинга в свете философии сверхсознательного»), бог ответствен за творение не вместо нас и даже не вместе с нами, а в нас. Однако же в таком случае не может быть и речи о том, что самоотрицание бога в акте творения (грехопадение) означает нечто большее, чем просто переход из сверхбытия в бытие, из сущности в явление. Воля бога к творению есть воля к самоутверждению, которой противоположна воля к самоутверждению твари, и если для бога его самоутверждение есть potentia post actum (почему конечную цель творения и следует определять как уже достигнутую от века), то для твари, напротив, ее самоутверждение есть potentia ante actum (чем и объясняется неудовлетворимость индивидуального эгоизма, относительно которой будет еще сказано ниже): в единстве этих противоположностей как раз и состоит акт творения. Гартман утверждает (см. «Философия бессознательного», т. II, гл. XIII пер. А. А. Козлова), что несовершенство мира следует объяснять тем, что бесконечности воли, как потенции бытия, не соответствует конечность того или другого определенного хотения, и что поэтому на удовлетворенное хотение всегда будет приходиться в качестве остатка бесконечность неудовлетворенной воли. Это утверждение верно, однако же не по отношению к богу, для которого нет и быть не может различия между хотением и его удовлетворением (именно потому, что его воля есть потенция, всегда, так сказать, покрытая актом), а по отношению к твари, которую именно слепая жажда бытия побуждает к отделению от творца в акте творения, поскольку эта жажда для нее есть, как сказал бы здесь Шеллинг, голод себялюбия, испытываемый ею как одной среди многих, а потому и неудовлетворимый (ср.: «Пролегомены к практической философии», «Еще раз о ценности человеческой жизни в свете философии сверхсознательного»). Таким образом, самоутверждение твари в ее отдельности от творца, как одной среди многих, и есть корень зла, состоящего в распаде предвечного единства всего сущего на множественность, или, как сказал бы Шопенгауэр, в «принципе индивидуации», необходимым спутником которого является эгоизм, от природы свойственный каждому отдельному существу. Вот почему философия сверхсознательного может быть с ничуть не меньшим основанием названа философией искупления, ведь искупление мира, как конечная цель его бытия, вытекает здесь с логической необходимостью из конечной цели творения, с которой бытие мира, именно как отдельного от творца, находится в противоречии, решение которого дается лишь ценою искупления мира, каковое суть искупление мира от себя же самого. Если, как полагает Майнлендер, бог, перейдя из сущности в явление, тем самым уничтожил себя самого, то не стоит удивляться тому, что искупление мира дается ценою его обращения в абсолютное ничто, в nihil negativum; напротив, если, как утверждает философия сверхсознательного, мир в своей отдельности от бога есть простое явление, тогда как в самой сущности он – единое целое с богом, то искупление мира следует мыслить как его обращение лишь в относительное ничто, в nihil privativum. Здесь, а именно в том, что касается эсхатологии, философия сверхсознательного примыкает к философии Шопенгауэра, расходясь в данном отношении не только с философией Майнлендера, но и, между прочим, с философией Гартмана.
Прежде чем обратиться к более детальному рассмотрению этого вопроса, остановимся вкратце на рассуждениях Майнлендера относительно этики. В этике Майнлендер – эвдемонист: «Этика – это эвдемонизм, или учение о счастье: утверждение, которое тысячелетиями не поколебать». И действительно, как это мною уже отмечалось (см., напр., «Этическая проблема в свете философии сверхсознательного»), если смотреть на этику с чисто имманентной точки зрения (как это и делает Майнлендер), необходимо признать, что именно в счастье заключается цель человеческой жизни. Но достижимость этой цели Майнлендер как раз и отрицает, причем весьма примечательно, что, в отличие от Шопенгауэра и Гартмана, он не особо утруждает себя обоснованием эвдемонологического пессимизма. При этом стоит отдать должное Майнлендеру за то, что, в отличие от Шопенгауэра, он отказывается считать отсутствие эгоистической мотивации критерием моральной ценности поступков, основываясь на том соображении, что в природе нет и быть не может таких поступков, которые не были бы эгоистичными: вне зависимости от того, подлым или же, напротив, благородным является поступок, он не может не быть эгоистичным, поскольку для совершения поступка необходим достаточный мотив, действие которого на волю имеет место лишь при том условии, что мотив этот соответствует характеру того, кто данный поступок совершает. Я бы сказал так, что Шопенгауэр прав в том пункте, что отсутствие эгоистической мотивации является критерием моральной ценности того или другого поступка, но таковое отсутствие может быть лишь относительным, а не абсолютным, ибо в действительности альтруизм есть не что иное, как альтер-эгоизм (ср. «Ценность любви в свете философии сверхсознательного»). Майнлендер, как и Шопенгауэр, признает прирожденность человеку его индивидуального характера, но при этом, в отличие от Шопенгауэра, отрицает его неизменность, основываясь на том верном соображении, что с прирожденными чертами характера сосуществуют его приобретенные черты, причем, добавлю здесь от себя, возможность этого сосуществования объясняется эмпиричностью характера человека как явления. Казалось бы, странно, что мыслитель, считавший абсолютное ничто конечной целью мира, отнюдь не считал бессмысленной социально-политическую активность и даже придерживался социал-демократических взглядов, находя возможным построение социалистического общества мирным, ненасильственным путем. В действительности же у Майнлендера здесь есть своя логика, и она совпадает с логикой Гартмана, для которого прогресс мира посредством устранения внешних зол жизни есть только средство к тому, чтобы в конечном итоге человечество пришло к пониманию того, что зло жизни лежит в ней самой, и что поэтому небытие лучше бытия. Таким образом, мы снова вплотную подходим к вопросу об эсхатологии в философии Майнлендера.
Признаюсь честно, именно в этом пункте философия Майнлендера представляется мне чрезвычайно темной и невразумительной. Если суммировать его взгляды по данному поводу, они сводятся к тому, что в ходе мирового процесса действует то, что Майнлендер называет «законом убывания силы», и это – явная отсылка ко второму началу термодинамики, более известному как «закон энтропии»: в последовательном развитии от неорганического к органическому, низших форм жизни к высшим прослеживается, как полагает философ, воля к смерти, утверждение которой произошло в изначальном акте творения; поскольку же бог может перейти от сверхбытия к небытию не прямо, а лишь косвенно, посредством бытия, постольку воля к смерти находит себе противодействие в органическом мире, а именно в мире животных и людей, в виде инстинктов самосохранения и продолжения рода. Но Майнлендер оставляет нерешенным вопрос, будет ли энтропия мира когда-либо завершена, и если да, то благодаря ли человеку или же чисто естественным путем: по-видимому, он полагал, что половое воздержание, став всеобщей максимой (?!), повлечет за собою исчезновение человечества, а вслед за ним – исчезновение всего живого на Земле, и если так, впору задаться вопросом, есть ли в этом какой-либо смысл. Если «философ искупления» прав, и весь мир, как дыхание мертвого божества, пронизывает «закон убывания силы», то энтропия мира – неумолимый в своей естественности процесс, содействие которому со стороны человека совершенно излишне, поскольку рано или поздно этот процесс возымеет своим результатом то, что в 1865 году (за три года до написания Майнлендером «Философии освобождения»!) Р. Клаузиус назвал «тепловой смертью вселенной». Но тут же я должен заметить, что ошибка Клаузиуса состояла в экстраполяции второго начала термодинамики на всю вселенную: можно говорить об энтропии Солнечной системы, Млечного Пути и даже метагалактики, но энтропия вселенной – совершенно произвольное допущение, поскольку вселенная никогда не станет объектом естественно-научного познания, хотя метагалактика, как наблюдаемая вселенная, может расширяться до бесконечности; следовательно, допущение «тепловой смерти вселенной», как и допущение ее конечности, на котором это первое основывается, провисает в воздухе, и мы должны признать, что ближе к истине космологическая модель «пульсирующей вселенной», отголосок которой прослеживается уже в символическом представлении индусов о цикличности мира. Если же содействие человека процессу энтропии действительно имеет определенный смысл, то, даже фантастически (!) допустив, что рано или поздно человечество станет настолько сознательным, чтобы отказ от размножения стал в нем всеобщей максимой, исчезновение человечества таким путем, как и путем его коллективного самоубийства, предписанного Гартманом, будет совершенно бесполезным, поскольку оно повлечет за собою уничтожение не мира, а разума в мире: допустим, что человечество – единственный вид разумных существ (допущение, для которого нет ни малейших оснований); однако же с исчезновением человечества не исчезнет возможность повторного возникновения разумной жизни если и не на этом, то на каком-либо другом небесном теле, и тогда вся история стона и скорбей начнется сызнова. Если справедливо, что жизнь – ад, а смерть – избавление от этого ада, то не менее справедливо, что каждый рано или поздно обретет это избавление в собственной смерти. Признание этого, в свою очередь, подводит нас вплотную к вопросу о самоубийстве.
Взгляд Майнлендера по данному вопросу состоит в том, что, не призывая к самоубийству, он вместе с тем не берется его порицать: «Кто не может больше нести бремя жизни, пусть сбросит его с себя. Кто не может больше терпеть в карнавальном зале мира, или, как говорит Жан Поль, в зале великих слуг мира, пусть выйдет из “всегда открытой” двери в тихую ночь». И действительно, если в этике не покидать имманентную точку зрения, которая, согласно вышесказанному, необходимо приводит к эвдемонизму, то в тех случаях, когда человеку отрезана всякая возможность исполнять свои обязанности по отношению к ближним и обществу в целом (оговорюсь при этом, что такие случаи крайне редки), решение о добровольном уходе из жизни должно рассматриваться как сугубо его личное дело. Напротив, если при взгляде на этику покинуть имманентную точку зрения, тем самым заняв позицию мизерабилизма, диаметрально противоположного эвдемонизму, то основание недопустимости самоубийства можно сформулировать вот каким образом: если справедливо, что конечная цель жизни состоит именно в смерти (что и так очевидно, стоит только вспомнить, что сама жизнь – это отсроченная смерть, или, как сказал бы здесь Хайдеггер, «бытие-к-смерти»), так это потому, что лишь в смерти происходит наше окончательное искупление, в то время как полная страданий жизнь есть та цена, которую необходимо заплатить, чтобы удовлетворить вечному правосудию. Не стоит удивляться тому, что в теизме вечное правосудие олицетворено в образе судьи мира, который, будучи трансцендентной ему сущностью, предписывает моральный закон, воздействуя на волю такими мотивами, как страх наказания и надежда на награду; не отрицая полезности и даже необходимости такого представления о вечном правосудии, как приспособленного к естественному для нас эгоизму (понимание этой необходимости как раз и привело Канта к его моральной теологии, которой он сам не думал придавать какого-либо другого значения, кроме чисто практического), философия сверхсознательного утверждает, что в действительности судья мира не трансцендентен миру, а имманентен ему как сама его сущность: мир своим бытием уже вершит над собой от века «страшный суд», и поскольку мир – это мы сами, наше представление и наша воля, постольку вина мира – наша собственная, и поэтому искупление нас от мира есть то же, что искупление нас от самих себя. Если участь того или другого человека в отдельности достойна сострадания, то участь человечества в его целом не заслуживает ничего, кроме злорадства в смысле удовлетворенного чувства справедливости, испытываемого всякой благородной душой, которой доступно понимание следующего: «Что мы терпим, то мы и заслуживаем; мера нашего страдания полностью соответствует мере нашей вины, между тем и другим – совершенное равновесие; и если в том или другом отдельном случае наше страдание представляется нам безвинным и поэтому незаслуженным, то это – не более чем обманчивая видимость, обусловленная непониманием того, что страдание имманентно нашему бытию, что его можно избежать лишь в тех или других формах и при тех или других условиях, тогда как само по себе оно неизбежно в принципе, и что наша исконная вина, за которую мы терпим страдание как заслуженное наказание, лежит там, где мы ее даже не замечаем, а именно в самом нашем бытии, от которого страдание неотделимо». Мир неисправим и в этом смысле абсолютно безнадежен, но лишь потому, что он сам – арена нашего исправления; опыт же учит тому, что мы сами до конца неисправимы, что наше совершенство в смысле чистой, безусловной добродетели, т.е. добродетели, которая сама по себе есть цель, – опыт учит, что такое совершенство для нас есть только идеал, к которому хотя и необходимо стремиться, но которого невозможно достичь; поэтому наше окончательное исправление произойдет лишь тогда, когда мы перестанем быть и тем самым будем наконец искуплены.
Удивительно, что Майнлендер в заключение своей метафизики вплотную подходит к тому пункту, в котором его метафизика полностью совпадает с моральной телеологией, как она предстает в свете философии сверхсознательного: «А теперь рассмотрим утешение, непоколебимую уверенность, благословенное доверие, которые должны вытекать из метафизически обоснованной полной автономии личности. Все, что выпадает на долю человека: лишения, несчастья, печали, заботы, болезни, позор, презрение, отчаяние, словом, все тяготы жизни, – не навязано ему непостижимым Провидением, которое непостижимым образом намеревается сделать все возможное, но он терпит все это потому, что сам, еще до появления мира, выбрал все это как лучшее средство для достижения цели (курсив мой – О.Я.). Он выбрал все удары судьбы, которые выпали на его долю, потому что только через них он может быть искуплен. Его существо (демон и дух) и шанс верно ведут его через боль и похоть, через радость и печаль, через счастье и несчастье, через жизнь и смерть, к искуплению, которого он хочет». Как можно увидеть, в данном пункте метафизика Майнлендера приходит к учению об интеллигибельной свободе, уже в древности представленному в образах фантазии Платоном, а в Новое время усвоенному, только уже на языке отвлеченных понятий, Кантом, Шеллингом и Шопенгауэром. Провиденциализм, как чисто религиозное (и поэтому нефилософское) представление о моральной целесообразности в нашем бытии, может быть допущен только как символическое, а не догматическое представление именно потому, что, во-первых, эта целесообразность – не внешняя, как в провиденциализме, а внутренняя, и поэтому наша судьба – дело рук не чужой, а нашей собственной воли; во-вторых, эта целесообразность необходимо представляется в провиденциализме как преднамеренная, тогда как в действительности эта преднамеренность – только кажущаяся: если справедливо, что цель нашего бытия (вместе со средствами, необходимыми для ее достижения) не дана нам, а поставлена нами самими, не менее справедливо, что решение, которым от века определено наше бытие, принято нами, так сказать, вслепую, и только интеллект усматривает в течении нашей жизни планомерность, которую он же сам непроизвольно туда вносит; иначе совершенно невозможно понять, почему течение нашей жизни, с метафизической точки зрения полностью соответствующее нашей воле, с чисто эмпирической точки зрения этой же воле чуждо и во многом, если не в основном даже противно ей. Впрочем, Майнлендер отдает себе отчет в неизбежности известных религиозных представлений для ума, неискушенного философской рефлексией: «Нельзя отрицать, что идея личного, любящего Бога захватывает человеческое сердце, “непокорное и унылое существо”, сильнее, чем абстрактная судьба, и что идея Царства Небесного, где ни в чем не нуждающиеся, преображенные люди блаженно покоятся в вечном созерцании, пробуждает более сильную тоску, чем абсолютное небытие. И здесь имманентная философия мягка и благосклонна. Главным остается то, что человек преодолел мир с помощью знаний. Оставит ли он признанную судьбу такой, какая она есть, или снова придаст ей черты верного отца; оставит ли он признанной целью мира абсолютное небытие или превратит его в залитый светом сад вечного покоя – это совершенно второстепенный вопрос. Кто захочет прервать невинную, безопасную игру воображения?»
Прежде чем поставить точку в настоящем изложении, мне бы хотелось выразить свою признательность Сергею Петровичу Колбасову, труду которого в качестве переводчика мы обязаны появлением «Философии освобождения» на русском языке.
«Мудрый человек твердо и радостно смотрит в глаза абсолютному небытию». Этими словами Филипп Майнлендер заканчивает свою «Философию освобождения».
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

