Сущностные черты моего философского миропонимания
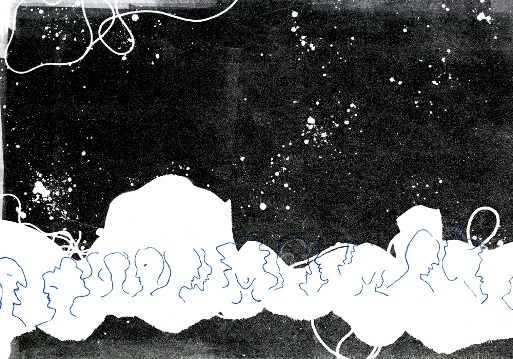
В порядке небольшого добавления к моим размышлениям о связи метафизики с этической проблематикой мне бы хотелось мимоходом затронуть вопрос касательно моего отношения к теизму. Понятие Бога не только несостоятельно в качестве трансцендентной гипостазы, как это установлено в «Критике чистого разума», но и служит источником неустранимых затруднений, касающихся сообразования премудрости и всеблагости Божией с очевидной горечью нашей эмпирической жизни, равно как и сообразования всеведения и всемогущества Божия со свободой человеческой воли. Вот почему в свете теистического богословия не представляется возможным не только решить проблему зла, но и осмысленно говорить о моральной вменяемости человека. Отсюда и великое изречение Стендаля: «Единственным оправданием для Бога может быть только то, что его не существует». Утверждение, согласно которому Бог создал человека свободным, лишено мыслимого содержания, ибо на самом деле невозможно представить себе, чтобы некое существо, будучи всецело зависимым в своем бытии и сущности от кого-либо другого, вместе с тем представало бы самоопределяемым в своей деятельности, а потому и ответственным за свое поведение. Но если свободу человеческой воли нельзя помыслить без предположения о ее самопричинности (causa sui), то в связи с этим необходимо также признать, что первосущее надлежит искать не в некоем отличном от нас существе, как это делает теизм, а в той стороне нашего собственного Я, которая относится не к явлению, а к вещи самой по себе. Это соответствует в полной мере изречению Августина: «Если бы я мог увидеть себя, то я бы увидел Тебя». Только при таком раскладе можно решить столь мучительный для нас вопрос о происхождении зла, а также найти законное место для моральной значимости нашего поведения. Именно поэтому в своем философствовании я намерен и впредь руководствоваться следующим девизом Шопенгауэра: «Кто любит истину, тот ненавидит богов, как в единственном, так и во множественном числе». Правда, будучи человеком интеллектуально честным, я должен сознаться, что не могу, хотя бы чисто теоретически, исключать возможность бытия Божия, поскольку голое понятие о соответствующем предмете не заключает в себе противоречия. Однако же если принять к сведению то соображение, что мы в состоянии ясно и отчетливо мыслить Бога лишь антропоморфически, т.е. по аналогии с человеком, а именно как живого, личного Бога, между тем как известные предикаты, которыми определяется высшая сущность, предстают неадекватными применительно к тому, каков обсуждаемый нами предмет сам по себе, т.е. безотносительно к нашей мысли (этому, как известно, учит апофатическая теология), а потому могут служить лишь для того, чтобы как можно лучше представлять себе предполагаемое его отношение к миру, то в практическом отношении я все же не могу всерьез считаться с допущением возможности бытия Божия именно потому, что лично мне оно представляется фантастичным. И в самом деле, коль скоро мы отбрасываем все те предикаты, которые служат определению высшей сущности (всеведение, всемогущество, всеблагость, премудрость etc.), то более чем очевидно, что тем самым обессмысливается разговор о субъекте, посредством таковых предикатов определяемом, ибо при таком раскладе мы хотя и можем по-прежнему о нем говорить, но уже не в состоянии его ясно мыслить, отчего, собственно, мой атеизм можно определять как «практическую апофатику». Впрочем, если рассмотреть ту же проблему зла, невозможность разрешения которой в свете теистического богословия служит лично для меня главнейшим препятствием к признанию бытия Божия, менее односторонне и несколько глубже, то нельзя не согласиться с прекрасными мыслями Шопенгауэра на сей счет, которые звучат следующим образом, а именно: «Когда, всмотревшись в человеческую испорченность, <...> вы готовы прийти от нее в ужас, необходимо тотчас же бросить взгляд на злополучность человеческого существования; когда она в свою очередь ужаснет вас, снова переведите свой взгляд на испорченность: тогда будет ясно, что они взаимно уравновешиваются, тогда вы уразумеете вечную справедливость и увидите, что этот мир и есть страшный Суд; тогда вы начнете понимать, почему все живущее должно искупать свое существование сначала жизнью, а затем — смертью». Поэтому, сколь чуждой мне бы ни была идея живого Бога, однако же если понимать суть дела вышеуказанным образом, то станет ясным, что догмат о промысле Божием, который, будучи принятым за чистую монету, звучит поистине возмутительно для разума, в некотором отношении все же допустим и терпим, а именно как регулятивная схема для ориентирования в повседневной жизни, позволяющая грубому рассудку уяснить моральную значимость его существования в этом безумном мире, хотя таковой догмат, ввиду его антропоморфичности, может рассматриваться лишь как суррогат или, если быть точнее, аллегория истины.
Существует, пожалуй, наиболее интригующая из всех проблем метафизики, а именно проблема, касающаяся нашего посмертного бытия, более или менее основательное рассмотрение которой уже было дано мною в другом месте (см. «Проблема смерти и бессмертия»). Испокон веку предметом беспрестанных споров предстает ens rationis под именем души, и если одни, ссылаясь на бесчисленное множество надежных опытных данных, неопровержимо свидетельствующих о полной зависимости нашей познавательной способности от состояния телесных органов, стремятся доказать ее материальную природу и, как следствие, бренность, то другие, напротив, упорно придерживаются диаметрально противоположного взгляда, безуспешно пытаясь доказать ее духовность и бессмертие. Корнем диалектической видимости (если выражаться кантовским языком), поддерживающей до сих пор существование этой ложной дилеммы, является ошибочное принятие логического единства нашего Я, определенного Кантом в качестве «синтетического единства трансцендентальной апперцепции», за его реальное единство, которое в действительности остается для нас тайной за семью печатями. Другими словами, то, что на самом деле есть не более как формальное условие возможности опыта вообще, или субъект познания, ложно выдается за познаваемый объект, в отношении которого затем и выдвигаются исключающие друг друга предположения касательно его истинного существа. К разрешению вышеуказанной дилеммы могут послужить такие соображения. Поскольку мы не в состоянии представить себе вечную жизнь иначе как будущей жизнью, а именно бесконечным продолжением нашей эмпирической, или чувственной, жизни, в то время как интеллигибельная, или чисто духовная, жизнь может быть представлена нами лишь негативно, постольку бессмертие души не представляется возможным доказать. Но поскольку чувственные предметы существуют под условием времени, которое, в свою очередь, суть только форма нашего представления, постольку бессмертие души не представляется возможным опровергнуть. Таким образом, если с эмпирической точки зрения после смерти нас ждет то, о чем было сказано Когелетом («Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают»), то с метафизической точки зрения наша жизнь никогда не закончится ровно постольку, поскольку она, собственно, никогда и не начиналась. При этом нужно помнить, что метафизическая точка зрения доступна нам лишь in abstracto, тогда как in concreto она была бы нам доступна только в том случае, если бы наш интеллект располагал способностью к тому, что именуется умственным воззрением (сегодня более известным в качестве так называемого духовного, или мистического, опыта), а именно способностью к непосредственному восприятию сверхчувственного. Однако же в действительности мы обделены таковой способностью, ибо если subjective наше воззрение неосуществимо иначе как посредством чувств, то objective мы не только не вправе, но и не в состоянии представить себе познание иначе как работой мозга. В этом смысле как раз и нужно понимать слова Канта: «Нам даны вещи как вне нас находящиеся предметы наших чувств, но о том, каковы они сами по себе, мы ничего не знаем, а знаем только их явления, т.е. представления, которые они в нас производят, воздействуя на наши чувства». Поэтому для нас хотя и возможно мыслить самих себя вечными и, соответственно этому, бессмертными, но познать самих себя мы способны лишь в качестве таких существ, жизнь которых обречена на то, чтобы кончиться вместе со смертью, именно потому, что она некогда началась вместе с рождением. Это и означает, что проблема нашего посмертия трансцендентна. Тем, кто находит вышеизложенное решение данной проблемы малоутешительным и поэтому неудовлетворительным, я хотел бы предложить соображение, которое может послужить хотя и горьким, но все же утешением: время, когда меня не будет, не должно меня беспокоить в точно такой же степени, как и то время, когда меня не было, ибо когда нет меня, то нет более и времени; то, что время продолжит свое безостановочное течение и дальше, но уже для чужих Я, не может всерьез меня волновать уже хотя бы потому, что в качестве познающего субъекта я знаю с непосредственной достоверностью только себя самого, между тем как другого я могу знать в том же самом качестве лишь очень и очень косвенно, а именно посредством заключения по аналогии. Этого соображения вполне достаточно, чтобы, повторяя его про себя, спокойно встретить час смертный.
Главную мысль кантовской философии, с известных пор ставшей путеводной звездой моей собственной мысли, можно вкратце сформулировать приблизительно следующим образом. Наше познание слагается из двух необходимо дополняющих друг друга моментов, а именно из воззрения и мышления, причем мыслить что-либо мы в состоянии только посредством априорных понятий нашего рассудка (реальность, субстанция и акциденция, причина и следствие etc.), которые, в свою очередь, способны дать нам познание лишь в том случае, если то или другое априорное понятие схематизировано, т.е. в основе его применения лежит воззрение; поскольку же наше воззрение неосуществимо без посредства чувств, а также имеет своими формами пространство и время, постольку оно не дает нам ничего, кроме явлений, тогда как вещь сама по себе остается для нас непознаваемой именно потому, что мы не располагаем какими-либо вескими основаниями, которые бы позволяли нам осуществить перенесение тех или других априорных понятий за пределы мира нашего опыта. Вот почему, согласно Канту, понятие вещи самой по себе располагает для нас достоверным значением лишь в качестве предельного понятия, обозначающего границу нашей познавательной способности, между тем как в качестве трансцендентальной идеи, или понятия разума, оно имеет для нас значение исключительно проблематическое, ибо предмет, таковой идее соответствующий, не может быть дан в чувственном воззрении. Таким образом, если рассуждать последовательно в том же духе, становится ясным, что коль скоро вещь сама по себе по определению лежит вне возможности нашего опыта и познания, то мы не имеем ни малейшего понятия не только о том, что, собственно, она собою представляет, но и о том, существует ли она вообще, поскольку для того, чтобы удостовериться в ее существовании, нам необходимо выйти за пределы нашего собственного сознания, а это по определению невозможно. Единственное, что обосновывает мысль о ее существовании — это, конечно же, наличность ощущения в наших чувствах, являющая собою единственно достоверный факт нашего сознания. Поскольку же явления в нашем сознании, которые вне нашего представления суть ничто, происходят из ощущений, составляющих их материал, или содержание, постольку нет ничего более нелепого, чем утверждать, будто бы явления, сами происходящие из ощущений, производят в нас таковые. (В противном случае, если исходить из противоположного допущения, мы неотвратимо обрекаем самих себя на тот circulus vitiosus, который составляет одно из фундаментальных противоречий в философии Шопенгауэра, всячески избегавшего мысли о вещи самой по себе, как об объективном источнике наших ощущений, под влиянием своего учителя Энезидема-Шульце.) Сходная мысль встречается у Эрнста Маха: «Не тела производят в нас ощущения, а то, что мы именуем телами, есть не что иное, как совокупность наших ощущений». Но если это неизвестное нечто, необходимо предполагаемое в качестве существующего вне нас (в самом строгом смысле слова), а потому и лежащего в основе наших представлений (ибо представление всегда есть представление о чем-то, равно как и явление всегда есть явление чего-то), никоим образом не может быть дано в чувственном воззрении, то из этого следует, что существование и причинность (априорные понятия нашего рассудка) этого нечто могут быть лишь интеллигибельными, а не эмпирическими, т.е. мы хотя и вправе мыслить некую вещь саму по себе как основу наших представлений, однако же не в состоянии познать наличность такового отношения между нею и нами. Другими словами, не мысль о вещи самой по себе обосновывает действительность в нас того или другого ощущения (подобное утверждение представляло бы собою верх нелепости, которую в свое время резонно подметил Фихте), но факт ощущения в нас самих обосновывает мысль о вещи самой по себе. Если же, как это делает Шопенгауэр, на полном серьезе утверждать, что эмпирический мир обусловливается познающим субъектом не только формально, т.е. со стороны его познаваемости, но и материально, т.е. со стороны его данности в нашем сознании, то не остается ничего другого, кроме иллюзионизма Беркли, обращающего действительность в пустой фантом, точнее, подменяющего действительность сном, пускай и связным. Поскольку же вещь сама по себе располагает относительно нас достоверным значением лишь в качестве предельного понятия, тогда как понятия нашего рассудка, соответственно этому, имеют обоснованное применение только в пределах возможного для нас опыта, постольку исчезает raison d'être метафизики, испокон века притязавшей на то, чтобы служить наукой о сверхчувственном. В данном отношении я нахожу более чем уместным привести соответствующее рассуждение Шопенгауэра: «То, что весь мир дан нам лишь из вторых рук, как представление, образ в нашей голове, мозговой феномен, собственная же воля известна нам непосредственно, в самосознании; то, что, поэтому, оказывается разделение, даже противоположность, между нашим собственным бытием и бытием мира, — все это не более как результат нашего индивидуального и животного существования, который поэтому и исчезает с прекращением последнего. До тех же пор для нас невозможно устранить из мысли эту основную и исконную форму нашего сознания, — форму, которая представляет собою то, что́ обозначают как распадение на субъект и объект, — невозможно по той причине, что эта форма служит предпосылкой всякого мышления и представления: вот почему мы постоянно принимаем и признаем ее за изначальную сущность и основное качество мира, тогда как на деле она — только форма нашего животного сознания и опосредствованных им явлений. А отсюда и возникают все эти вопросы о начале, конце, границах и возникновении мира, о продолжении нашего собственного бытия после смерти и т. д. Все они, поэтому, зиждутся на ложном предположении, которое то, что служит лишь формой явления, т. е. опосредствованных через животное мозговое сознание представлений, приписывает вещи в себе самой и потому выдает за исконное и основное качество мира. В этом смысле и надо понимать кантовское выражение: все такие вопросы трансцендентны. Таким образом, они не допускают решительно никакого ответа не только subjective, но и в себе и для себя самих, т. e. objective. Ибо это — проблемы, которые совершенно отпадают с прекращением нашего мозгового сознания и обусловленной им противоположности, а между тем их ставят так, как если бы они от него не зависели. Кто например, спрашивает, будет ли он существовать после своей смерти, тот отбрасывает in hypothesi свое животное мозговое сознание, спрашивая, однако, о вещи, которая возможна лишь под условием такого сознания, потому что она основана на форме последнего, именно субъекте, объекте, пространстве и времени, — спрашивая, значит, о своем индивидуальном бытии. Так вот, философия, дающая себе ясный отчет во всех этих условиях и ограничениях как таких, трансцендентальна, и, поскольку она объявляет всеобщие осново-определения объективного мира делом субъекта, постольку она — трансцендентальный идеализм. — Мало-помалу люди придут к сознанию, что проблемы метафизики неразрешимы лишь настолько, насколько уже в самых вопросах содержится противоречие». И в самом деле, мы находим резонной постановку метафизических вопросов именно потому, что нашему мышлению свойственно придавать истинно-сущему видимость (Schein) объективного бытия и, сообразно этому, увлекаться таковой видимостью посредством «софистических уловок, присущих не людям, а самому разуму, — уловок, от которых не может оградить себя даже и мудрейший и вследствие которых, если и можно, после больших усилий, предостеречь себя от ошибки, но зато нельзя освободиться от ее навязчивого и дразнящего призрака». Стоит же только нам столкнуться с неразрешимостью всех этих вопросов, как мы тут же начинаем в порыве отчаяния сетовать на ограниченность нашего знания. Однако же в действительности это сетование ни на чем не основано, поскольку оно проистекает из непонимания той истины, что познание по своему понятию имманентно, между тем как трансцендентное познание есть не более чем contradictio in adjecto. Поэтому, когда Кант говорит о том, что мы познаем только явления, то это выражение нужно понимать вовсе не в том смысле, будто бы являющееся безнадежно отделено от явления непроходимой перегородкой, а в том лишь смысле, что вещь (Ding) может быть познана только в собственном явлении, выражением, или раскрытием, коей оно служит, ибо всякий раз, когда что-либо познается, оно вместе с тем переходит из бытия в себе и для себя в бытие для другого, т.е. становится находящимся в сознании, между тем как непознаваемым оно предстает ровно постольку, поскольку выходит за пределы сознания, как бы обретаясь в области самобытия. Таким образом, все эти проблемы, невозможность решения которых не дает нам покоя, оказываются неразрешимыми не только относительно, т.е. для нас, но и абсолютно, т.е. сами по себе, ибо там, где начинается самобытная сущность вещей, наступает конец всякому познанию. Это соответствует изречению Скота Эриугены: «Бог не знает о себе, что он есть, потому что он не есть никакое "что"». Вот почему наиболее последовательный вывод из критической философии был сделан позитивизмом, который, в свою очередь, не следует ни под каким предлогом смешивать со сциентизмом, ибо если позитивизм есть не более чем простое неприятие метафизики, то сциентизм, напротив, принуждает науку исполнять ту функцию, которая никоим образом не может составлять ее компетенцию.
Все это рассуждение объективно удостоверяет то, что самим Кантом было доказано субъективно. Чтобы оно предстало еще более понятным, нелишним будет указать на то, что обычный человек задается метафизическими вопросами, изыскивая пути к их решению, лишь в практических целях, имея в виду не иначе как удовлетворение своекорыстных интересов, точнее, служение неисчерпаемым запросам его индивидуальной воли. Так, допустим, человек, задающийся вопросом о цели и назначении его собственного бытия и бытия мира, тем самым, пускай и не осознавая того, ищет схему для ориентирования в своей повседневной деятельности, тогда как невозможность нахождения объективно значимого ответа на этот вопрос неминуемо приводит его к тому состоянию, которое резонно определяют как экзистенциальный ужас (Angst). И лишь немногие избранники рода человеческого, обыкновенно именуемые гениями, у которых имеет место быть анормальный излишек мозговой деятельности, обусловливающий перевес в них чисто теоретического интереса над интересами практическими, занимаются метафизикой единственно ради ничем не мотивированного, бескорыстного искания истины. Пониманием этого, быть может, как раз и подобает объяснять двойственность Канта относительно метафизики — двойственность, которая и по сию пору составляет едва ли не главнейший камень преткновения для почти что всех исследователей его творчества. С одной стороны, великий кенигсбергский мыслитель установил, что такие понятия, как Бог и душа, являются понятиями, с которыми в эмпирической реальности не соотнесено ровным счетом ничего, т.е., попросту говоря, объявил их пустыми фикциями (entia rationis ratiocinantis), а потому и отказал таковым понятиям в праве считаться научными гипотезами, оставив за ними разве что значение регулятивных принципов научного исследования. (Однако же последнее, как по мне, было сделано Кантом вовсе не всерьез, а ровно постольку, поскольку здесь сработало то, что Шеллинг метко определил в качестве «кантовской системы приспособления».) Дабы не показаться в данном отношении голословным, сошлюсь на слова самого философа из его трансцендентального учения о методе, изложенного в довершение «Критики чистого разума» (см. «Дисциплина чистого разума в отношении гипотез»): «Понятия разума <...> суть только идеи, и, конечно, для них нет предмета ни в каком опыте, однако отсюда вовсе не следует, что они обозначают предметы вымышленные и вместе с тем признаваемые возможными. Они мыслятся только проблематически, для того чтобы можно было обосновать по отношению к ним (как эвристическим фикциям) регулятивные принципы систематического применения рассудка в сфере опыта. Вне этого своего применения они суть пустые порождения мысли, возможность которых недоказуема и которые поэтому не могут быть положены в основу объяснения действительных явлений посредством гипотез». (Замечу, между прочим, что Кант уже в «Грезах духовидца» вдоволь поиздевался над метафизиками, немилосердно окрестив их заодно «мечтателями разума».) Но с другой стороны, несмотря на то, что вышеозначенные понятия могут в качестве научных гипотез располагать лишь фиктивным значением, они, согласно заверениям Канта, располагают практической необходимостью, хотя таковая необходимость по своему понятию может быть лишь субъективной, а не объективной, ибо она не подлежит теоретическому обоснованию, т.е. не может ручаться за то, чтобы, выражаясь кантовским языком, расширить разум в его спекулятивном применении. Таким образом, в кантовских практических постулатах, на которых, собственно, зиждется то немногое, что осталось у Канта от метафизики, а именно его этическая теология, подобает видеть только регулятивные этические принципы, т.е. схемы для ориентирования в поведении, следование которым позволяет человеку не сойти с ума от отчаяния в его одиноком противостоянии чуждой и холодной вселенной, совершенно безразличной к запросам его неутомимой воли. Что же касается тех, кто, имея закоренелую привычку выдавать желаемое за действительное, очень хочет принять кантовскую этическую теологию за нечто большее, нежели за регулятивную схему нравственности, а именно за самый что ни на есть догматический теизм, то я предлагаю им противопоставить что-либо дельное цитате самого философа из поистине загадочных его черновиков: «Бог — не существо вне меня, а лишь моя мысль» (см. Гулыга А.В. Кант. М., 1977. С. 207). Но даже если хотя бы на долю секунды предположить, что Кант притязал на то, чтобы его так называемая моральная аргументация в пользу бытия Божия и бессмертия души располагала объективной доказательной силой, то это было бы уже вполне достаточным для того, чтобы упрекнуть философа в непоследовательности и тем самым очернить его имя, не говоря уже о том, что от самого Канта, вернее, от его понимания не могла укрыться справедливость следующего возражения, а именно: какова истинно моральная значимость поведения, мотивированного ничем не оправданной (по крайней мере, теоретически) верой в вечное райское блаженство или вечную адскую муку (впрочем, о последней у Канта речи и не идет) так называемой души? Не мудрствуя лукаво, я могу безо всяких околичностей указать на тех, кому, собственно, потребовался весь этот коварно инспирированный подлог, нацеленный на то, чтобы выставить Канта на посмешище и, соответственно этому, дискредитировать его. — Это церковники, а также неисчислимое множество их прислужников из среды тех, кто выдает себя за философов, ибо они по сию пору не могут простить «кенигсбергскому упрямцу» (Шопенгауэр) его разрушительной работы по окончательному опровержению метафизических учений о Боге и душе, благодаря которой философия может считать себя навеки свободной ото всякого прислуживания теологии. Хотя Кант и заверил устрашенные его критикой доверчивые умы, что бытие Божие и бессмертие души неопровержимы в точно такой же степени, как и недоказуемы, однако же для Канта, вне всякого сомнения, не могла быть тайной презумпция доказуемости, гласящая: «Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat; negantis nulla probatio est» («Доказывание лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает; на отрицающем нет обязанности доказывать»). К таковой презумпции в качестве ее необходимого короллария примыкает следующая презумпция, а именно: «Quod gratis asseritur, gratis negatur» («Что свободно утверждается, то свободно отбрасывается»). Излишне говорить, что и то, и другое положение не могло быть тайной и для тех противников Канта, которые были слишком образованны для того, чтобы их не знать, равно как хорошо известны эти положения и теперешним достаточно подкованным ненавистникам кантовского наследия. Что же касается требования негативного доказательства, столь часто раздающегося со стороны теистов, то несообразность его, как известно, была наглядно продемонстрирована Бертраном Расселом посредством аналогии с чайником, имеющей в данном отношении заслугу reductio ad absurdum. Не стоит поэтому удивляться, что если недоказуемость бытия Божия, раз и навсегда установленная Кантом, делает неверие точкой зрения «по умолчанию» (как это справедливо, можно увидеть хотя бы из того, что каждый из нас появляется на свет с неверием, пускай и неосознанным), то поборники теистического догматизма, будучи не в силах чем-либо возразить, сначала решили не внять неопровержимым доводам величайшего мыслителя всех времен и тем самым попросту ими пренебречь (насколько мне известно, подобного рода дерзость по сию пору дозволяют себе еще многие ревнители веры), а затем и вовсе развернули массированную кампанию по дискредитации Канта, всеми правдами и неправдами выдавая его этическую теологию за очередное доказательство бытия высшей сущности. Да и вообще, чтобы раз и навсегда поставить точку (по крайней мере, лично для себя) в, пожалуй, нескончаемом споре между теистами и так называемыми атеистами, я нахожу вполне уместным сослаться на слова некоего современного автора, неплохо иллюстрирующие те выводы, которые с логической необходимостью вытекают из критической философии применительно к данному вопросу: «Спор о том, существует бог или не существует, является беспредметным. Предметность — это философское понятие, означающее, что явление, действие, и т.д. связано с предметом или само является предметом; реальное существование чего-либо в качестве предмета. Бог никак себя не проявляет, поэтому о реальном существовании бога нет абсолютно никаких данных. При таких обстоятельствах отсутствует предметность бога как сверхсубъекта и отсутствует предмет спора между защитниками идеи бога и теми, кто отвергает эту идею как совершенно необоснованную». Можно сказать и так, что спор по данному вопросу предстает неразрешимым ровно настолько, насколько самый предмет спора является не иначе как чисто умозрительным.
Впрочем, сколь бы обескураживающими все эти открытия, произведенные некогда критической философией, ни были для последующего занятия метафизикой, однако же они необходимы в целях отрезвления человеческого ума, в своем наглом самомнении позабывшего о том, что во всем он может двигаться лишь, что называется, до известного предела. И в самом деле, если всезнайство догматических религий повлекло за собою такие отвратительные эксцессы, как обскурантизм и фанатизм, то всезнайство догматических философов повлекло за собою то кризисное состояние, в котором и по сию пору находится философия. Отныне метафизические системы допустимы лишь в качестве рабочих гипотез, которые, располагая эвристической ценностью в том смысле, что они являются вполне приемлемыми в целях систематизации нашего знания о мире и нас самих, вовсе не могут ручаться за исчерпывающее решение постоянно тревожащей нас мировой загадки. Правда, метафизике хотя и должно быть раз и навсегда отказано в ее прежнем значении, но из этого вовсе не следует, будто бы люди когда-нибудь прекратят ею заниматься, ибо, согласно признанию того же Канта, метафизическая потребность, а именно потребность к тому, чтобы доискиваться сути вещей, является неотъемлемой от нашего разума. Таковы соображения, которые потребовались для того, чтобы прояснить лишний раз мое мнение насчет правомерности метафизики.
Человек может сомневаться в чем угодно на свете, но только не в своем собственном существовании, ибо для того, чтобы сомневаться, нужно уже существовать. Эта аксиома, впервые выведенная Августином и затем подтвержденная Картезием, является, пожалуй, единственным пунктом, точнее, той узкой дверцей, сквозь которую нам представляется возможным пролить свет на окутанную мраком проблему вещи самой по себе, или подлинного бытия. В самом деле, нет для человека ничего более непосредственно очевидного, вернее, самоочевидного, нежели его собственное Я. Из этой непосредственности субъекта явствует не только опосредствованность объекта («мир — мое представление»), но и то, что именно здесь, т.е. в своем собственном Я, человек обретает в равной мере как всереальное (ens realissimum), так и необходимое сущее (ens necessarium). Быть может, именно отсюда берет свое начало изречение Ницше: «Бог не может существовать, потому что в противном случае я был бы вторым, а я — первый». (Замечу от себя, что Ницше в данном отношении не так уж и далеко ушел от воззрений адвайта-веданты и шуньявады.) Однако же, как это установлено Кантом, человек в состоянии познать собственное Я только как явление, тогда как его реальное единство остается для него трансцендентным. Другими словами, Я для самого себя остается тайной, почему, собственно, мы никогда не встретим в опыте под названием «души» никакой простой субстанции, и если objective, т.е. с точки зрения эмпирической психологии, это объясняется тем, что мы не вправе понимать человека иначе как мыслящее тело (corpus cogitans), то subjective, т.е. с точки зрения нашего самосознания, объяснение этому кроется в том, что мы представляем для самих себя нечто сложное, а именно состоящее из двух разнородных частей, одной из которых оказывается теоретическая, а другой — практическая способность в нас самих. Таким образом, наше подлинное Я, поскольку оно предстает озаренным светом нашего познания, есть не что иное, как воля. Когда мною говорится «Я познаю», то здесь налицо аналитическое суждение, которое в познавательном смысле пусто и бессодержательно, поскольку не дает мне совершенно никакого знания о том, что составляет, выражаясь кантовским языком, трансцендентальный предмет моего внутреннего чувства, ибо посредством такового суждения мною попросту констатируется нечто лежащее на поверхности, т.е. факт моего собственного познания. Но когда мною говорится «Я хочу», то здесь я имею дело с синтетическим суждением, причем a posteriori, почему, собственно, только в отношении собственного воления мною может быть высказано экзистенциальное суждение, дающее мне некоторое знание о том, что представляет собою моя самость. Однако же (и об этом крайне важно помнить) понятие о моей самости имеет смысл только в том случае, если мое познание и воление составляют реальное, а не одно только логическое единство, а то, при каком условии это возможно, мною уже обстоятельно выяснялось в других местах. Не исключено, что именно полной разнородностью познания и воления надлежит объяснять то обстоятельство, что, с одной стороны, в каждом из нас живет неискоренимое чувство исконности и неразрушимости нашего Я, но с другой стороны, мы лишены не только всяческого понятия о нашем состоянии a parte post, но и какого-либо воспоминания о нашем состоянии a parte ante. В связи с этим отпадает, кстати говоря, и то скептическое возражение, которое столь часто доводится слышать, когда заходит речь о нашем посмертии: «Отчего же меня не было прежде моего рождения?» Ибо если вечность суть нечто принципиальное иное, нежели временное бывание, тогда как наше познание, будучи простой функцией мозга, предназначено к тому, чтобы оперировать только явлениями, то не стоит удивляться тому, что это познание не вмещает в себя никакого воспоминания о вечности, поскольку воспоминание есть всегда не что иное, как память о минувшем времени. Вот почему мы хотя и не имеем никаких оснований предполагать, будто бы наше познание сохранится за порогом смерти, ибо оно наверняка должно погибнуть вместе с миром явлений, средой обитания которого оно служит, но при этом ничто не мешает нам допустить, что наше посмертное состояние не будет лишенным познания, ибо само по себе наше воление, составляющее действительный предмет нашего самосознания, представляет, скорее, нечто сверхсознательное, а не просто бессознательное. Равно как в свете основного идеалистического воззрения критической философии, уничтожившей рациональную психологию вкупе с ее паралогизмами, мы вправе полагать реальное единство нашего собственного бытия с бытием прочего мира, противоположность которых обусловлена представлением, так же мы вправе полагать реальное единство нашего Я, помимо которого было бы попросту невозможным не только сознание исконности и неразрушимости нашего истинного существа, но и сознание ответственности за каждое наше деяние.
При этом я должен оговорить некоторые соображения, касающиеся того пункта, что исчерпывающее и адекватное решение вопроса о реальности внешнего мира, или вопроса об отношении идеального и реального, составляющего проблему философии первостепенной важности, является вовеки неосуществимой задачей. Несмотря на то, что сознание внешних вещей дано нам с точно такой же непосредственностью, как и сознание нас самих (основываясь именно на этой мысли, Кант как раз и обосновал эмпирический реализм в противовес эмпирическому идеализму), это не отменяет никоим образом того обстоятельства, что единственное, что нам известно наверняка, — это лишь тот способ, каким вещи действуют на нас, а именно их явления в нашем сознании, тогда как, согласно вышесказанному, сами вещи остаются абсолютно непознаваемыми, т.е. мы не располагаем никакими сведениями не только о сущности вещей, но и об их бытии. Само собою разумеется, что на это мне могут смело возразить, что, дескать, коль скоро нами познается действие вещей, то посредством оного мы познаем также их бытие, ибо невозможно осмысленно говорить о действии какого-то нечто без того, чтобы тем самым не предполагать того, что это нечто существует. Так и есть, но в том-то все и дело, что здесь налицо онтологический способ аргументации, когда из того, что нечто необходимо мыслится, делается неправомерный вывод о том, что оно необходимо существует, т.е. не может не существовать. Другими словами, невозможно вывести из чисто аналитического рассуждения действительное существование чего бы то ни было. Таким образом, граница между идеальным и реальным, отношение которых составляет предмет интересующей нас проблемы, проходит не по ту, а по сю сторону нашего сознания, и это настолько очевидно, что не требует никаких доказательств, ибо если основательно вдуматься в противоположное допущение, то мы тут же осознаем, что оно являет собою форменную нелепость. Мир сам по себе — это мир без нас, однако же о таком мире мы не располагаем никаким другим понятием, кроме негативного, из чего необходимо следует, что мир, каков он в нашем знании, т.е. для нас, может существовать только как представление, за вычетом которого остается не реальное бытие вещей, каковы они сами по себе (а ведь именно это обыкновенно мнится обыденному рассудку, не замечающему того противоречия, которое заключается в надлежащем допущении), но только пустое ничто. Лишь такое понимание критической философии, будучи единственно соответствующим ее духу, позволяет высвободить Канта от весьма и весьма распространенного упрека в непоследовательности, существо которого состоит в том, будто бы философ, с одной стороны, полагал сверхчувственное, потустороннее нашему опыту и познанию бытие вещей самих по себе, а с другой стороны, утверждал, что материал нашего познания дается нам посредством опыта. В таком случае необходимо признать, что вещи сами по себе кроются где-то за явлениями, подобно тому, как зерно кроется за скорлупою, т.е. должно утверждать, будто бы явления суть не одни только представления нашего сознания, а вещи помимо таковых, но при таком раскладе критическая философия переворачивается с ног на голову и оказывается не только непонятной, но и несообразной, ибо она, согласно верному замечанию Фихте, предстает при таком понимании «смешением наудачу самого грубого догматизма с самым решительным идеализмом». Дабы не показаться в данном отношении голословным, я сошлюсь на слова самого Канта, высказанные им по ходу опровержения четвертого паралогизма рациональной психологии в 1-м издании «Критики чистого разума»: «В самом деле, если рассматривать внешние явления как представления, вызываемые в нас их предметами как вещами, сами по себе находящимися вне нас, то нельзя понять, каким образом можно было бы узнать об этом их существовании иначе как путем заключения от действия к причине, и при таком заключении всегда должно оставаться сомнительным, находится эта причина в нас или вне нас. Правда, можно допустить, что причиной наших внешних созерцаний служит нечто находящееся вне нас в трансцендентальном смысле, но оно не есть тот предмет, который мы подразумеваем под представлениями о материи и телесных вещах, так как эти вещи суть лишь явления, т.е. виды представлений, которые находятся всегда только в нас и действительность которых основывается на непосредственном сознании точно так же, как и осознание моих собственных мыслей». Следовательно, материал нашего познания хотя и надлежит рассматривать в качестве данного, т.е. вполне неподвластного нашему произволу, однако же это выражение, могущее ввести в заблуждение, надлежит понимать в том смысле, что таковой материал дается нам в опыте, составляя необходимую предпосылку оного точно так же, как и его чисто формальные условия, т.е. воззрительные (пространство и время) функции нашего мозга. Однако же для любого здравомыслящего человека должно быть очевидным, что эмпирический объект необходимо предполагает отношение к ощущению; другими словами, каждый из нас в достаточной мере осознает, что известный объект лишь тогда дается нам в восприятии, когда наша чувственность определена им посредством ощущения. Чтобы избежать порочного круга, когда, с одной стороны, явления в нашем сознании происходят из ощущений, но с другой стороны, ощущения сами выводятся из явлений, одновременно с этим избежав наивного реализма, следует принять к сведению вот какое соображение, а именно: ощущение в том или другом чувстве (например, ощущение красного цвета в зрении), из которого, собственно, берет свое начало эмпирическое воззрение, — субъективно; закон причинности, на котором зиждется предположение, согласно которому известное ощущение соответствует некой внешней причине, — тоже субъективен; пространство, в котором причина ощущения необходимо представляется нами в качестве объекта, есть точно такая же, субъективная по своему происхождению форма нашего интеллекта. Стало быть, хотя перехода от действия в нашем чувстве к соответствующей ему причине, осуществляемого, как это было убедительно показано Шопенгауэром, вполне интуитивно, а потому и как бы бессознательно, достаточно для того, чтобы удостовериться в наличности <эмпирически> внешнего предмета, воспринимаемого поэтому непосредственно, т.е. безо всякой рефлексии, однако же если руководствоваться оным переходом для того, чтобы посредством него доискаться внутренней сущности такового предмета, то вполне очевидно, что его для соответствующей цели уже недостаточно, ибо, согласно вышесказанному, как материальная, так и формальная сторона нашего воззрения берет свое начало в нас самих, что, собственно, делает предположение о данности в нашем восприятии чего-то вне нас (в собственном смысле этого слова) не только излишним, но и недопустимым. Как это справедливо, можно увидеть хотя бы из того, что даже самый строгий материалист не в состоянии отрицать, что нет и быть не может решительно никакого сходства между нервным процессом в мозгу, результатом коего предстает сознание какого-нибудь образа, и тем, что таковому образу должно соответствовать. Поэтому не существует более надежного в смысле безусловной достоверности положения, нежели то положение, которое было взято за основу Шопенгауэром в самом начале изложения им своей философской системы: «Мир — это мое представление».
В этом пункте моя точка зрения целиком и полностью совпадает с точкой зрения Шопенгауэра, которому я могу адресовать по данному поводу лишь тот упрек, что он не мог, оставаясь последовательным, с одной стороны, полагать реальность вещей самих по себе, но с другой стороны, отрицать за ними какую бы то ни было причинность, ибо, как ни крути, но основание материала нашего познания так или иначе подпадает под понятие о вещи самой по себе, чего, разумеется, сам Шопенгауэр не мог не понимать. И в самом деле, от понимания философа не могло укрыться то соображение, что объект, как такой, обусловливается познающим субъектом материально ровно постольку, поскольку он существует, точнее, составляет представление нашего ума, а не постольку, поскольку являет собою в нашем уме некую данность, сам факт которой делает необходимым предположение о чем-то таком, что реально существует вне нас (в трансцендентальном смысле), ибо эта данность явно обязана вовсе не нам, а вполне независимой от нас, самобытной сущности вещей. Вот почему Шопенгауэр удержал кантовскую предпосылку о существовании вещей самих по себе, заодно признав вопрос об отношении между идеальным и реальным, т.е. об отношении наших представлений к тому, что нами представляется, главнейшим вопросом современной ему философии (наряду с вопросом о моральной свободе). Коль скоро Кантом было установлено, что сознание внешних вещей дано нам с точно такой же непосредственностью, как и сознание нас самих, то уже ничто не мешает нам допустить, что как у нашего внутреннего бытия, так и у внешнего бытия одна и та же самобытная сущность. Поэтому, если исходить из того, что самобытная сущность нашего внутреннего бытия есть неизвестная величина = x, тогда как самобытная сущность внешнего бытия — неизвестная величина = y, то вполне достаточно узнать, что, собственно, представляет собою x, для того, чтобы доискаться того, что представляет собою y. Если мы будем руководствоваться ариадниной нитью чисто объективного познания, подходящего к вещам всегда и только извне, а именно как ко внешним явлениям, то мы никогда не сможем возыметь какого-либо представления не только о сущности, но и о бытии внешних вещей, ибо при такой предпосылке нам не остается ничего другого, кроме перехода от действия в нас самих ко внешней причине, а подобного рода переход, согласно вышесказанному, будет не только неправомерным, но и недостаточным для того, чтобы заполучить сведения о самобытной сущности вещей вне нас, равно как и о том, что они вообще существуют. Вот почему Шопенгауэр говорит о том, что нет более фундаментального различия, нежели различие между самосознанием и сознанием внешних вещей, ибо если себя каждый знает непосредственно, то другое — весьма и весьма опосредствованно, но коль скоро мы хотим доискаться того, что, собственно, представляют собою внешние вещи сами по себе, то нам не остается ничего другого, кроме признания, что если бы мы были в состоянии знать их изнутри, то их самобытную сущность надлежало бы признать тем, что в себе самих мы осознаем как волю. Поистине, наше воление — это ведь не какая-нибудь ens rationis, т.е. не произвольно выдуманная сущность, а, напротив, самое реальное из всего того, что только может быть нам известно. Однако же здесь мы сразу же наталкиваемся на то возражение, что познание нами своей собственной воли не может считаться исчерпывающим и адекватным познанием вещи самой по себе, ибо хотя свою волю мы и знаем несравненно ближе, нежели все остальное, но это никоим образом не отменяет того обстоятельства, что таковое знание не является вполне непосредственным. И в самом деле, даже наше самосознание немыслимо без познавательной деформации, т.е. без различия между бытием в себе его объекта и преломлением такового бытия в познающем субъекте, почему, собственно, познание и воля хотя и образуют логическое единство, т.е. сливаются в сознание единого Я, однако же их реальное единство остается непроницаемым для нашего знания, не говоря уже о том, что по причине наличия познавательной деформации мы в состоянии познать собственную волю только как явление. К этому присовокупляется еще и то соображение, что самосознание немыслимо также без формы времени, посредством чего как раз и объясняется, что свою волю мы знаем не a priori, т.е. наперед, а лишь a posteriori, т.е. в последовательности отдельных ее актов, а эта последовательность, в свою очередь, обставляет нашу волю предикатами, имеющими за пределами явления лишь фиктивное значение. Другими словами, воля мыслима только как воля к чему-то, а именно как воля к жизни, тогда как более чем очевидно, что за пределами собственного явления, т.е. безотносительно к нашему познанию, она уже не может быть чем-либо мотивированной, т.е. предстает абсолютно свободной, а потому, строго говоря, уже и не может определяться в качестве воли. Таким образом, не только реальное единство нашего внутреннего бытия, но и самобытие воли составляет никогда не подлежащий восполнению пробел в нашем знании, ввиду чего Шопенгауэр должен был честно сознаться, что формула «вещь сама по себе = воля» хотя и предстает достаточной в целях дешифровки мира явлений, однако же не может рассматриваться как свидетельство исчерпывающего и адекватного знания вещей самих по себе, каковое невозможно именно потому, что есть явное противоречие в допущении, что вещи познаются такими, каковы они сами по себе, т.е. безотносительно к познанию. Впрочем, силу этого затруднения можно ослабить посредством указания на ту имманентность всяческого познания, о которой мною говорилось выше, дабы уяснить, что воля сама по себе остается неизвестной не только для нас, но и для себя, а потому ничто не мешает рассматривать тожество воли и вещи самой по себе в качестве устойчивой формулы, хотя, разумеется, таковая формула может ручаться за то, чтобы служить основой лишь имманентной, а не трансцендентной метафизики. (Но в том-то все и дело, что невозможность трансцендентной метафизики, раз и навсегда установленная Кантом, может смущать исключительно тех, кто держится предвзятого мнения, согласно которому неразрешимость трансцендентных вопросов свидетельствует об ограниченности нашего ума, тогда как на самом деле, как это мною уже было отмечено, проблемы метафизики не имеют решения лишь постольку, поскольку наша познавательная способность нацеливается на то, что по своему понятию не может быть предметом познания, точнее, может быть таковым предметом лишь призрачно.) Правда, вышеуказанные трудности усугубляются еще и тем, что Шопенгауэр, осуществляя переход от познания собственной воли к познанию мира как воли, допускает явный трансцензус, а именно неправомерный скачок за пределы сознания, существо которого, если коротко, заключается в том, что мы хотя и в состоянии, насколько это вообще возможно, познать истинно-сущее, притом как волю, однако же из этого вовсе не следует, будто бы другие люди, равно как и внешние явления, суть точно такие же, как и мы сами, явления воли. (А ведь именно в этом, согласно верному указанию самого Шопенгауэра, как раз и заключается главнейшая подоплека вопроса о реальности внешнего мира.) Поэтому, когда мы переходим от «мира как представления» к «миру как воле», т.е. от идеальности мира к его реальности, здесь налицо умозаключение по аналогии, которое, как известно, не дает никакого другого знания, кроме вероятностного, тогда как в данном случае, когда речь заходит о том, что лежит вне возможности опыта, даже о вероятии не может идти речи, почему, собственно, мы в данном отношении сталкиваемся с непреодолимым препятствием в лице теоретического эгоизма, признающего реальность только за собственным индивидуумом, а всех прочих людей, равно как и внешний мир, сводящего к уровню пустого фантома. Хотя Шопенгауэр и отшучивался, что, дескать, теоретический эгоизм как серьезное убеждение может встретиться лишь в сумасшедшем доме, однако же он был вынужден отдавать себе отчет в том, что теоретически его не представляется возможным опровергнуть, а потому нам не остается ничего другого, кроме признания того, что реальность внешнего мира можно лишь полагать, ибо если в практическом отношении реальность других людей и внешних явлений ни у кого из нас не вызывает сомнений, то в теоретическом отношении понятие о таковой реальности весьма и весьма проблематично. Вот и все, что требовалось сказать о пределах наших возможностей относительно решения вопроса о реальности других людей и внешнего мира.
В свете сказанного выше становится ясным, отчего из всех догматических (в кантовском смысле этого слова) гипотез наиболее оправданной представляется мне гипотеза о всеединстве (hen kai pan), составляющая многовековую принадлежность человеческой мудрости, которую можно обнаружить уже в философии Упанишад. Мысль о том, что подлинно существует одно-единственное существо, которое является всеми нами и вместе с тем каждым из нас в отдельности, должна показаться странной лишь тому, кто, оставаясь на эмпирической точке зрения, принимает время и пространство за определения самих вещей, тогда как для того, кто находит в пространстве и времени одни только формы нашего интеллекта, должно быть ясно, что количественные характеристики, обусловленные таковыми формами, хотя и располагают действительным значением в мире опыта, но за его пределами имеют уже фиктивное значение. Правда, в дополнение к этому трансцендентальному соображению может быть высказано еще и то соображение, что если objective каждый из нас, поскольку он не чужд философской рефлексии, должен признать свое индивидуальное бытие лишь бесконечно малой величиной в сравнении с необъятным мирозданием, наполняющим собою безначальное время и безграничное пространство, то subjective, как об этом уже было сказано выше, именно это личное бытие предстает для каждого вместилищем подлинного бытия. Вне всякого сомнения, именно отсюда берет свое начало изречение Упанишад, пускай и подводящее нас вплотную к иллюминизму, если и вовсе не к мистицизму: «Нае omnes creaturæ in totum ego sum et præter me ens aliud non est, et omnia ego creata feci» («Все эти твари вместе — это я, вне меня не существует никакого другого существа»). Сколь бы внеопытным ни было это обобщение, оно имеет свое оправдание в той, впервые осознанной в полной мере только Картезием, истине, согласно которой всякий знает непосредственно исключительно себя, тогда как другое — лишь косвенно и поэтому несовершенно. Однако же читатель, внимательно следивший за развитием моей мысли в предшествующих моих работах, может с полным на то основанием предъявить мне упрек в непоследовательности, которая встречается также и у Шопенгауэра, а именно: коль скоро мною утверждается, что характер каждого человека надлежит полагать в качестве обоснованного его же интеллигибельным, вневременным актом свободы, то не следует ли из этого, что мною, вопреки моему же собственному запрету, количественные характеристики, имеющие действительное значение только в пространстве и времени, неправомерно переносятся за пределы возможного опыта? Возражение более чем очевидно. Дело в том, что возражение это выдвигается или отпадает в строгой зависимости от того, каким образом нами понимается единство. Когда Спиноза говорил о том, что существует лишь одна-единственная субстанция, то он был прав, но ошибка его заключалась в полагании, будто бы единичные вещи суть не более чем принадлежащие ей акциденции, ввиду чего, собственно, единство понималось им чисто механически, точнее, математически, а именно как сумма, или совокупность, вещей. В действительности же истинное единство суть не сумма, а целое, поскольку оно представляет собою не пустое и отвлеченное единство, исключающее какую бы то ни было множественность, точнее, лишенное таковой, но конкретное единство, необходимым образом заключающее в себе множественность. Пониманию этого человеческая мысль должна быть обязанной гению Вл. Соловьева, которого лично я нахожу, быть может, наиболее значительным из русских мыслителей, хотя и не разделяю его гностических фантазий о гипостазах, относительно которых мы не можем знать ровным счетом ничего, равно как и не разделяю его исторического, вернее, телеологического миропонимания, а также не симпатизирую его болезненной склонности к тому, что Кант в своих «Грезах духовидца» определял как «мечтательство ощущений», т.е. ко мнимому общению с неким миром духов. Таким образом, истинное единство относится к единичным вещам отрицательно только в том смысле, что оно не есть что-либо, тогда как положительно оно относится к единичным вещам именно потому, что оно не имеет ничего вне себя и, как следствие, необходимо заключает в себе единичные вещи. Другими словами, истинное единство суть не что иное, как единство во множественности. И в самом деле, если человек, как эмпирический индивидуум, суть только явление, которое, в свою очередь, лишено само по себе какого-либо самостоятельного значения, то его интеллигибельная сущность предстает не иначе как всеобъемлющей, ибо бытие каждого из нас в отдельности располагает самостоятельным значением ровно постольку, поскольку оно пребывает в существенном единстве со всем. Само собою разумеется, что эти соображения недоступны ясному изложению, ибо здесь все перед нами instabilis tellus, innabilis unda («шаткая земля, зыбкие воды»), однако же этих соображений вполне достаточно для того, чтобы высвободиться в глазах читателя от вышеозначенного упрека в непоследовательности. Чтобы изложенная мною идея не показалась такой уж темной, мне бы хотелось в порядке заключения привести цитату австрийского физика Эрвина Шредингера, передающего своими словами ту же самую доктрину, которая, между прочим, известна сегодня в качестве открытого индивидуализма: «Не может быть, чтобы то единство знаний, чувства, желания и воли, которое ты называешь собой, возникло бы недавно в определённый момент времени из ничего; скорее, эти знания, чувства и желания по существу вечны и неизменны и числом всего одно во всех людях, даже во всех чувствующих существах. Но не так, как это провозглашает пантеизм Спинозы, будто ты часть, кусочек вечной бесконечной сущности, лишь одна сторона, одна модификация её. Потому что в таком случае остаётся то же неудовлетворение: какая сторона суть именно ты, что объективно отличает её от остальных? Нет, вместо этого общему сознанию всё представляется следующим непостижимым образом: ты и точно также любое другое само по себе взятое сознательное существо — всё во всём. Поэтому настоящая твоя жизнь, которую ты ведёшь, тоже не есть лишь часть мировых событий, а в известном смысле они целиком. Только это целое не такого свойства, что может быть охвачено одним взглядом». Сюда же относится и другая цитата Шредингера, разъясняющая, кстати говоря, причину возникновения тех затруднений, которые становятся на нашем пути всякий раз, когда мы принимаемся за то, чтобы осмыслить проблему нашего бытия после смерти: «Как же вообще могло возникнуть представление о множественности сознаний (против которого так настойчиво выступают авторы Упанишад)? Сознание интимно связано и зависит от физического состояния определённой части материи — от тела (вспомните различные душевные изменения, происходящие во время развития организма, например, при созревании, старении, старческом слабоумии и т. д., или наступающие под действием лихорадки, отравления, наркоза, повреждения мозга и пр.). Но таких человеческих тел имеется множество. Если исходить из этого, представление о множественности сознаний или интеллектов кажется весьма убедительной гипотезой. Вероятно, все простые, непритязательные люди, так же как и огромное большинство западных философов, считают её верной. Принятие этой гипотезы почти неминуемо приводит в дальнейшем к признанию душ, столь же многочисленных, как и тела, и затем к вопросу, так же ли смертны эти души, как тела, или, наоборот, они бессмертны и могут существовать совершенно самостоятельно. Первая мысль производит на всякого человека крайне неприятное впечатление, тогда как последняя откровенно забывает, игнорирует и даже вовсе отрицает именно те предпосылки, на которых основана сама гипотеза множественности». Вот, собственно, и все, что мною хотелось сказать о сущностных чертах моего философского миропонимания, каким оно сложилось на данный момент времени. Конечно, настоящее изложение могло бы предстать куда более пространным, однако же цель, стоявшая передо мною, сводилась вовсе не к тому, чтобы утомить читателя прочтением как можно большего по своему объему текста. Именно поэтому я ставлю наконец-то точку, ибо в любом деле нужно вовремя останавливаться.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

