В тени Водолея (3)
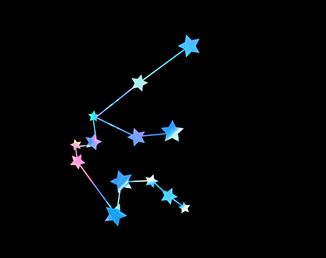
Новый год встречали у Старовойтовых. Ночь – чудо. Только что выпал снег, чистый, нежный, как лебяжий пух. Впервые в эту зиму, с ее мраком и ужасной голой, мертвой землей. Всё преобразилось. На улицах толпы, молодежь, веселье. Беспрерывный грохот выстрелов, взлетающие звезды фейерверков со всех сторон. Светло как днем. Мороз, метель, Рождество, болезнь, бессонная ночь, круг мыслей, все тех же, заколдованный круг, опыт поражений. Тонко составленные образы звучат в унисон хрустальными колокольчиками. Чудотворство неизвестного мастера. Слово прямо вживлено в нервы, как в струны и клавиши рояля. Слово прямо бьет в клавишу нерва, и нерв звучит, и это звучание в организме живет и растет, как в резонаторе, долго, долго, навсегда. Магическая сила слова. Страшная магия. Язык – родовой дух. Язык – дух рода. Язык входит в меня, в мою плоть и кровь, от него я зажигаюсь. Как красиво стоят звуки в лучших стихах лучших поэтов! И в прозе – Пушкина-Гоголя-Лермонтова. Мировое достояние. Звуки стоят чисто и мощно, в строке, фразе. Этим я и счастлив, это мое высшее счастье, здесь, на этих путях-кругах. Как прекрасно расставлены звуки у Пушкина: «И ель сквозь иней зеленеет». «Мчатся тучи, вьются тучи». «Сквозь волнистые туманы пробирается луна». «По дороге зимней скучной тройка борзая бежит». «Редеет облаков летучая гряда». «Роняет лес багряный свой убор». У Пушкина почти везде звуки расставлены божественно, этим-то он и гений. И у Блока: «Змеишься в чаше золотой». Как красиво поставлены эти два «З» в начале и в конце. И также: «И над твоим собольим мехом гуляет ветер голубой». Эти два «Г» в начале и в конце – дивно стоят. И два «Б» – чистая связка двух строк, и «твоим» с «ветер». Вот она – магия! Или еще у Блока: «Не пойму я, что нас манит, не поймешь ты, что со мной, чей под маской взор туманит сумрак ночи снеговой». Тут дивная постановка «М» и «Н». Эти же звуки в названии: «Смятение». У Гоголя: «Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды…». И вся эта повесть. Как дивно, чисто и роскошно стоят у него звуки, перекликаясь, точно серебряные колокольчики. Все фразы поют при их произнесении. Хор фраз. И так – вся певчая проза Гоголя, вся она – музыка и живопись. Вся – песня. Почему? Потому что так божественно расставлены звуки. «Снег вдруг загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами». У Лермонтова: «Я ехал на перекладных из Тифлиса». С первой же фразы – тонкая, изысканная расстановка звуков. Не навязчиво, изящно. И так – вся эта книга, весь роман. Эта проза – чистейший алмаз. Стихи, а не проза. «Тихо было все на небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней молитвы; только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем». Вот в чем мое счастье, моя радость: я слышу звуки, их чудный узор, этот божественный хор из иных миров. Да, эта фраза Лермонтова – чудо из чудес. Тут два плана: небо и земля, вертикаль и горизонталь. Космос, два мира, небо и земля – помещены в сердце человека при его утренней молитве (мистическое состояние). Вторая часть фразы – переход в тончайшую зоркость взгляда, в происходящее мгновение, в деталь: «только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем». Так и чувствуешь осязательно на своем лице это дуновение и видишь своими глазами эту приподнимающуюся лошадиную гриву и на ней – иней. А какая, опять же, тончайшая, филигранная инструментовка звуков! Узор этих «У», «И», «А», «Е», и гласные, и согласные. Это ведь не просто так, это – рисунок звуками, это некая мистическая картина, нарисованная звуками, где аукаются «тихо» – «молитве» – «приподнимая» – «гриву» – «покрытую» – «инеем». Словно жемчужины, нанизанные на тончайшую нить. Если бы не это чудесное письмо звуком, мы бы не почувствовали так остро осязательно представшие образы. Еще один пример того же волшебства – знаменитая фраза из» Тамани» (о ней у Анненского в «Книге отражений») : «Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона». Тут звуками рисуется ступень за ступенью восходящая лестница возникающего зрительного образа. Мистическое восхождение глаза.
А как чудно стоят звуки в «Слове о полку Игореве»! Вся эта маленькая древняя поэма поет и звенит, вся – музыка! И это другие звуки, не те, что в новой литературе. Звуки другие, но расстановка звуков равносильно чиста и мощна. Этот дар неизменен, и на этом даре стоит и будет стоять магия слов, магия поэзии. У разных поэтов разные звуки, у Пушкина – такие, у Державина – другие, у Маяковского – опять же, другие, но расстановка звуков равносильно чиста и точна, и, значит, равная магия. А нарушение, искажение или замена этой единственной, в каждом конкретном случае, звуковой расстановки неизбежно приводит к утрате этой магии. Что мы и видим на примере переводов, скажем того же «Слова о полку Игореве».
Вот почему я не могу читать тех авторов и те книги, где этой магии нет, где нет звука, где звуки свалены в кучу и перемешаны как попало, звуковая каша, мазня, грязь, глухота. Медведь оттоптал орфическое ухо музыки. Душа звука растерзана и убита. Не могу читать ни такие стихи, ни такую прозу; мое ухо страшно страдает, как у музыканта, который слышит фальшивые ноты и какафонию. Для меня это невыносимо, нестерпимо! Меня это ранит. И я отбрасываю от себя такие книги и таких авторов. А мысли, а чувства, а идеи, а образы, а новые формы и новые смыслы? Я не читатель смыслов, я читатель звуков. Я звуки читаю, рисунки звуками, узоры созвучий. Без звуков для меня нет ни мыслей, ни смыслов, ни чувств, ни образов, ни новых форм, ни новых истин.
Люди, дела, слова. Железно-серая безвозвратность кротовых ходов, поворотов и ворот – в никуда. Я, ученик Водолея, что я знаю и что умею? Рисовать звуки? Я вдруг оказываюсь в неизвестной стране, и тогда хочется о ней сказать «нечто». Свечение-звучание. Союз волшебных звуков, чувств и дум. Боратынский Киреевскому: «Ты меня понял совершенно, вошел в душу поэта, схватил поэзию, которая мне мечтается, когда я пишу. Твоя фраза: «переносит нас в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную» заставила меня встрепенуться от радости, ибо это-то самое достоинство я подозревал в себе в минуты авторского самолюбия…». «Какое-то странное упоительное сияние примешалось к блеску месяца». Майская ночь, утопленница. Певучая гибель. Голоса миров иных.
Серо-пепельно, заиндевелость, седое небо. Каким предамся я дорогам? Видевше же звезду возрадовася радостию велию зело. Все яблоки, все золотые шары. Набоков о Пастернаке: «Всё в нем выдает со стихом Бенедиктова свое роковое родство». Упорный недоброжелатель. Зыбкое мерцание хаоса за словами. Вихри и бури, размах крыла. «Содержательных людей мало». Шиллер. Единственный способ спастись: заключить пчелку в янтарь. Скоропись, клинопись, тайнопись. «Завьется в звуках музыки серебряная нить фантазии». Шуман. «Я сам, позорный и продажный, с кругами синими у глаз». «Блок – поэт сквозных гласных». Чуковский. «Пить с веток, бьющих по лицу… Так это эхо?..». Из неопубликованных стихов Александра Добролюбова: «Девочку, сестру мою жизнь». У Верлена строка из стихотворения «Мудрость»: «Твоя жизнь – сестра тебя, хоть и некрасивая». «Обтанцовывание смерти». Цветаева. Пошел в сберкассу. На обратном пути в церковь. Никого, я один. Перед иконой Божьей Матери. В церкви уже гасили свет. Я вышел, и служка закрыл за мной дверь на ключ. Зимняя ясная ночь… Рост Маяковского 183 см. Гнилые, черные зубы, вечный насморк, грипп, депрессии, слезящиеся глаза, хриплое дыхание. Тяжелое заболевание голосовых связок. «Мы – и отца обольем керосином, и в улицы пустим для иллюминаций». «Выковыривать изюм певучестей». «Я не твой, снеговая уродина!». Некто о Пастернаке: «Через всю свою долгую жизнь пронес неукротимую ненависть к определенности». «Ты – благо гибельного шага, когда житье тошней недуга». Три шага Вишну. «Тот, кому жизнь была сестрой, никогда не поймет того, кому сестрой была смерть». Ревет ли бык в лесу глухом. Остались броски сочинений. Пепельно. Купил килограмм морской капусты с креветками, там, где обычно покупаю; бреду, нехотя, домой, мимо ювелирного магазина, цветочного, через парк; сумерки, карканье ворон. Безрадостны эти возвращения домой. «Хорошел, как рак в кипятке». «Тайная струя страданья». Старый Новый год. В полночь пили шампанское. Плакала, истерика, что несчастна, что жизнь прожита.
С сестрой в ГБР. Мороз, солнце, лыжи, четыре тростинки в снегу. «Твоя истинная сущность не лежит глубоко в тебе, а где-то недосягаемо высоко над тобой». Ницше. «Я очень присматривался к гениальным людям, по биографии и проч., и нашел, что чем одареннее они, тем слабее их воля над собою… Так что это вовсе не порок ваш, а – совсем другое». Флоренский Розанову. Крещение. Вечер Чехова, 150 лет со дня рождения. «Я знаменитость номер 877». Чехов. Врач дал ему бокал шампанского. Чехов сказал: «Ich sterbe», выпил до дна, повернулся на правый бок и умер. В момент смерти выстрелила пробка от шампанского. Ночью в раскрытое окно влетела черная бабочка. 44 года, его ощущение жизни, «Гусев», «Черный монах», «Чайка», письма. Костя Крикунов: «Это теперь не его собачье дело. Это теперь исторический документ». Летописи? Карамзин?.. В ларьке у старухи купил лилии. Бессонница, снег, крыши. С бессонною душой, душою чуткого поэта. Куда я попал? Зачем я тут? Ожерелье катастроф. Метро «Политехническая», встреча. Дотащил в рюкзаке, луна. Ну, вот, сбылась мечта идиота. Теперь есть что повесить себе на могилу. Снятие блокады. Биографии великих – углы безумий. Партитуры скуки. Всё человечество – единый мозг и единая душа. Точка равноденствия. Нуль. Будь в нуле. Окраска, огранка, призма. Многогранность, голос. Острие блеска, пыль подножия. Или Лицо, или безликий Некто. Айн Соф. Дао. Горький вкус письмен, чары, магия; слух, способный уловить весть, пришедшую с края Вселенной. Снится Аввалон, хрустальный дворец, остров блаженных, меня встречают прекрасные девы в белых одеждах и венках из лилий. Каждая из них протягивает мне камень с написанным на нем, неизвестным мне именем. Это мое новое имя. Все камни разной окраски и все имена разные. Я должен выбрать. К метро, она знает, что мне надо. Мимо пруда, через мост, мороз, ветер в лицо, лютая стужа. В магазин посуды, долго выбирали, купили чудесную чашку из костяного фарфора, белоснежного цвета, с золотым ободком, сбоку летит Пушкин, изящный, бакенбарды, черный, эфиоп. Подарок. Вернулись домой замерзшие, как гиперборейцы. Брукнер, исполнение его третьей симфонии – провал. Чехов – премьера «Чайки» – провал. Чехов о Достоевском: «Длинно и нескромно». Дух музыки и поэзии – против духа журнализма и беллетризма, против талмудства. Белобог против Чернобога. Во мне ни слова, пустыня, оцепенение, ничего не хочется делать. Мог бы еще что-то. Не могу, не могу! Этой ночью Луна приблизится к Земле на 54 тысячи километров больше, чем обычно, она будет ярко-желтая и хорошо видна в горах и у моря. Дружеская пирушка. Писаки-собаки. Поздно, полночь. Когда вместе с толпой выходил из метро, мелодичный женский голос объявил, что сейчас отправляется последний поезд. Невесомость. Купили в подарок китайские настенные часы. Мороз, ветер, снег, пруды, ограды, троллейбусы. Жестоковыйно. Отвага: иметь голые нервы. Гроза на Синае, «Поэма огня», голос из тьмы: ноты молний! читай ноты молний! Нас мало, нас, может быть, трое. Миллиарды. Улитка – воскрешение. Еще звенит в душе осколок былых и будущих времен. Мои цепи, думы и книги. Кто бунтует – в том сердце щедро.
Февраль, метель. Черные мысли. Гори, гори, моя звезда. Студент Чуевский и композитор-дилетант Булахов, парализованный. Мурзин, электронная музыка. Всей сердечной мерою. Садись один и тризну соверши по радостям земным твоей души. Вторник. Мне 63. Теракт на железной дороге между Броневой и Ленинским проспектом, взрыв фугаса. Загубленные души. Огнь с небесе сойдет и съест еще пятьдесят. Пугачев, заячий тулупчик, переулок, звезда, скрещенные сабли острием вниз, ледяное дыхание Сатурна. Ул.Восстания, на выходе в шесть, нас шестеро в этом феврале. Дар случайный, однозвучный, месяц с левой стороны. Поворот да не тот, суеверная иголочка забытого страха. Пискаревское, ветер в спину, горькие глотки, назад, назад… Нижинский, опавший лепесток танца. Бреду один, невесомость, снег летит, сосны. Интерес к жизни потерян, а ведь в прошлом году я еще был другой. Вот опять поворот к свету, весной повеяло, но я уже не тот, неинтересный самому себе. С козырька над нашей парадной с блестящих наросших сосулек звучно льются капли. Старость, третий возраст. Чего же жду я, очарованный?.. Приходит титан и закручивает вокруг себя мир, как гигантский водоворот, в эту воронку втягивается все вокруг, всё человечество. Эта воронка продолжает крутиться и затягивать и после смерти титана, тысячелетия. Карлейль, язык с бубенцами, ярость уст. Жернова, Росинант. Бессонно, круги ада, рев с нижнего этажа, лопнула труба, аварийка, крики, выстрелы. Стоим у окна, зимняя ночь, злая, безумная. Куда нам – из этих клещей?.. Книги, их звездный звон. Звучание, а не значение. Звук впереди смысла – знаменосец, язык богов. Читатели значений – потерянный рай. Железный век. Ночь, снег, фары машин в глухих переулках, скрещение черных лучей. Стучат часы. Сижу один в темной комнате, не хочется зажигать свет. Нельзя писать во время отлива, перо погрязнет в тине. Вот она, курносая, стоит за моим плечом, на страже пера. Быть в точке, в которой чувствуешь и точно знаешь то, что катастрофично ново, ничего такого никогда не было, такое впервые. Первозданный свет в первый день Творения. А потом – потоп, повторы, повторы… мысли, споры, зашторено шаблоном. Глухо. Я рожден, чтоб целый мир был зритель торжества иль гибели моей. На запад, на запад помчался бы я. Последний потомок отважных бойцов увядает средь чуждых снегов. Водолей под двойной дланью Сатурна и Урана – это вихрь, который закручивает и людей и мир силовой спиралью, или острием вверх, или вниз, в плюс или в минус. Демонизм. Потемки души. В церковь, поставили свечки, родительская суббота. Воскресенье, солнце. Слово в лавровом венке – Софокл. Темная сила стучит в дверь. Набат, гроба, страна из серебра. На рынок. Кабан, мертвая голова на блюде, Иоанн Креститель. Жир книжной продажи. Ответ один – отказ. Кто ты, точка? Окончанье какой истории? Настроение у нас с тобой! Нестроение. Некто двуликий на монете: два Ивана. Топоры судят паутинку на борозде. Терпи. Бог любит число семь. Светло, ветер, мороз, воробьиный хор на кусте сирени у стены дома, освещенной солнцем. Голос арфы. Встали в восемь, спешим. В девятом уже светло. Солнце встает между домов. В морге толпа, гробы, отпеванье. Мы тут уже третий раз. Теперь Владимир Михайлович. В автобусе, на Южное кладбище. Мороз, день яркий, солнечный, снег блестит. Могильщики роют яму, из ямы пар. Замерзли, водка. Поминки, стол через всю комнату, от двери до окна. Фотографии. Избитая дорога, черепа по обочинам. Сгусток тумана, неизвестность, зов воды и ветра; меня позвали широко веющие крылья породившего меня. Толпы слепцов топчут земной шар. Им дают древнюю монету с оком Брахмы и они прозревают свой последний день. «Монета взвилась и упала звеня: все бросились к ней». Вот опять повеяло это дуновение, мистический ветерок. Паутинные кружева эфемерностей. Жил-был я. День – октаэдр в ледяном круге. Черная пчела сосет ось. Скольжу по зеркалам. Равноценные знаки избранных. Признак и венец. Полные молчания и пустоты формы в призрачном свете ультрафиолета. Звонки бездны. Не сплю, бессонницы, кресты, снега, к метро. Черные иглы этих дней пронизают насквозь, дрожу, какие-то общежития, проходные дворы, сквозняки. Нева слишком широкая для Невы, фонари, сфинксы. Мне холодно, я один. Балтийский вокзал, пустые перроны, странно их видеть, дальше возятся какие-то люди, яма от взрыва, развороченные рельсы. Не доехать…
Снег, сердце ноет. Не мешай молнии! Шекспир в Гамлете, Гете – в Фаусте. «Есть два чудовища в искусстве – художник, который не мастер, и мастер, который не художник». Анатоль Франс. Радужная весть: собачка ощенилась. Лыжи, солнце. День – декаэдр в голубом круге. Вечер памяти Анатолия Степанова, годовщина смерти. Врубель, Эмилия Прахова, демоническая женщина. Фреска в Киеве, образ Богородицы – с лицом Праховой, и эти жуткие глаза. И потом стал писать своих демонов с ее глазами. Написав «Демона поверженного», сошел с ума. Зарёв – август. Рев зверей в этом месяце. Определение – это покров, покрыло и закрыло. Определители-покровители. Филины и совы. Лысо-кудрые любомудры. Из куколки числа рождается радужнокрылая бабочка мира. Умирая, бабочка возвращается в рай числа. Просветление после метели. Пока мир не перевернулся и сияет этот день, пока живу, пишу, шуршу. Писатель-невидимка, пишет, незримым для обычного человеческого глаза, биолучом на черной бумаге. Его писания можно увидеть только в потустороннем свете. Человек-молния, кому его летучие послания, гром телеграмм? Уже легла, Суламифь, Роза мира. Эта грозопись испепелит мир. Прозу Пушкина называют голой. Предельный лаконизм, сухость. Сухой треск искрящегося электро-провода, короткое замыкание. Удары слов, встряхивающие сердца. Искорки артистизма. Зимняя олимпиада в Канаде, лыжники, гонки. Буран. Южно-приморский парк, лошади, лыжники, толпа, аттракционы, музыка. Метель. Вышли на залив, все в пелене. Спал, не спал. Щенки пищат. Федор Абрамов, рассказ «Собачья гордость». Он знает слово. О знахаре. Абрамов умер в 63. Как мне сейчас. «Это я начисто отметаю». Филонов. Мойка, Пушкин, речи, аплодисменты. «Писатель – это инициатива, инициатива – это писатель». «Все мы служим одной даме – Литературе». Сижу в норе, невидимый для всего мира, неизвестный миру, и тку свою золотую паутину слов, свои драгоценные, многоцветные кружева – вот я, писатель. Образ писателя, который не вписывается. «Искания в живописи не имеют никакого значения, важны только находки». Пикассо. Это вызов. Вызов на поединок. Цена силы – гибель. Она тебе – для боя. Игры со смертью. Во вся дни живота его. Тает, тускло, сыро. Мысль о траве, о дереве за окном, о вороне на суку или о грязи на дороге. Призрак работы. Стук капель, таянье. Он хочет жить ценою муки, ценой томительных забот, он покупает неба звуки, он даром славы не берет. Котельная на Гривцова. Отнес диск. Шел обратно (перейдя канал Грибоедова), – передо мной с крыши упала глыба льда. Еще б шаг… А когда шел здесь же два часа назад в противоположную сторону к котельной, из-под колеса проезжавшей мимо машины выскочил кусок льда и, как ядро, пролетев в сантиметре от моей головы, разбился о стену. Смерть на одном и том же месте промахнулась в меня за день два раза. Встреча на Сенной. «Среды». В кафе, разговор. Таянье, слякоть, хмарь, летит сырой снег. В древнем Китае черный квадрат – дракон драконов. Символ зла.
Март, к зубному врачу, на Стачек. Тает, сырой снег. Мистификатор, предатель, черная метка. Смотреть – жить. Землетрясение в Чили. Баня, Ершов, «Конек-горбунок». «Книга-то редкая, как это вы ее откопали?» Мощь пружины. Нуль с грохотом катится по пустыням страниц. На залив, проветриться. Шли и шли по льду, снег в лицо, свежесть, рыбаки, лыжники, санки, струнки камыша. Вернулись в сумерках, фонари. Сжатая пружина внутри, затаенная мощь. Боюсь ее пробуждения. Взрыв Слова. Витязь на перепутье: все стороны чужие. Оттепель, ураганный ветер. Сестра, шампанское. Принесли воды из трубы под горой. Старый дом, мамина комната, забрал дневники. Конец мира будет 21 декабря 2012 года. Гамов. Большой взрыв. «Как шумит гора!» – Лариса, когда мы шли от платформы. Брезжат в сознании узоры еще неясной мысли. Поэзия, ее безумные завитки, завихрения и зигзаги. Не предавай себя, не предавай молнию в себе, она – это ты. Всё, что не она – не ты. Разъезженная дорога. Снегопад. Игра златая. Верный путь. И тот, и этот. Направо пойдешь – в сердце нож. Налево пойдешь – будет то ж. Эти песенки мы уже слышали из более интересных уст. Скудронжогло, Костонжогло. Не выговорить. Внутри – тайный жар, снаружи – железно-серый день. Фантастические соображения. Нуль игры. Метро Чкаловская; с башней, 12 этажей. Его совиное гнездо на верхнем, 12-м. Хохлатые разговоры. Вид из окна: крыши, снегопад, метель, бесы. Ссора. Помирились. На залив, по льду. Морозно, ярко, трепещут метелки камыша, позлащенные закатным солнцем. Встреча. Иранские писатели. Григорий Перельман, математик, решил неразрешимое уравнение Пуанкаре. Живет на окраине Петербурга, в обыкновенной многоэтажке, один с матерью, 44 года, ни с кем не общается, дверь не открывает, на телефонные звонки не отвечает, в полной изоляции от мира. Обросший, волосы до плеч, борода, нигде не работает. Отказался от двух премий. Теперь отказывается от премии миллион долларов, премия тысячелетия. Депрессия. Святослав Рихтер, концерт в Лондоне, запись 1989 года. Пальцы-птицы летают по черно-белым клавишам. «Зеркало» Тарковского. Смотрим в четвертый раз. Мышление образами пресекает попытки рассуждений. Две стрелы в разные стороны из одного колчана. Чайки-ангелы высоко в небе. Масолов, композитор, симфония «Завод». Авангардная музыка, сверхсмелость. Исполняли по всему миру. В 37-м посадили. Вышел из лагеря сломанный. Писал уже чисто советскую посредственную музыку. Обращался по телефону: «Говорит покойник Масолов». К нему в квартиру забрался вор и унес только чемодан с его никому неизвестными ранними гениальными произведениями. Чемодан до сих пор не обнаружен. Если бы эти произведения Масолова были найдены, многое, возможно, в истории музыки 20 века пришлось бы пересмотреть. Нерваль, голубые волосы, водил омара на веревке по Парижу. Яркий день. Гуляли по льду залива. Рыбаки. Пишу без связок. Густовато. Из гусеницы родилась бабочка с узорами на крылышках. Потеплело, тает. Опять гуляли по льду залива. Солнце в дымке. Концерт во дворце Абамелек-Лазарева. В пышечную. Метро «Канал Грибоедова», встреча, журнал. Дождь, просветы. Вербное воскресенье. В Москве теракт, взрывы в метро, погибло 39 человек.
Апрель. Тополь светлый, трехтрубный. Язык воды и ветра. Медуза – самое древнее на земле животное. Все виды животных появились на земле 500 млн. лет назад, а медуза – 600 млн. лет назад. Так что все животные вышли из медузы. Медуза – прародительница всех животных, в том числе нас, людей. Пасха, пятна снега, светло, аз с вами. На Луне 3 млн. кратеров. Музей Державина, концерт. Чернышев, косточка того атамана Чернышева, сподвижника Ермака. Шумских-Леонова, редактор, рукопожатие. Тень Бунина и Рахманинова. Оредеж. Темный лес на том берегу, белеет снег, жажда света всю зиму, и вот он – свет. Ольха в золотистых сережках, солнце, солнце, всюду. Когти дьявола устремлены ко всему новому. Язык живородящий, самоговорящий и самопишущий, голос его – рев моря. Песнь дракона сокрушает горы. Белоголовый мастер боя, сила на острие вихря. Во рту перламутровый перстень. Под Смоленском разбился самолет с поляками, погибло все польское правительство, президент, министры, генералы, всего 90 человек. Летели в Хатынь, туман, самолет задел деревья. Параджанов «Цвет граната». «Ты – огонь, ты облачена в черное». Цензура вырезала много прекрасных кусков, и фильм был перемонтажирован. Умер Костя Крикунов, 48 лет. Эта хрустальная нота ушла из мира. К Техноложке. Втроем у окна, чашка кофе. Купол Троицкого собора, обновленный, синий с золотыми звездами. Смоленское кладбище, похороны Кости Крикунова. Яркий апрельский день. Извержение вулкана в Исландии. Черное облако пепла накрыло половину Европы. Отменены рейсы самолетов. Ожидается, что к вечеру эта туча дойдет до Петербурга, возможно, прольется серный дождь. Умно молчит. Мысль светится в глубине мозга таинственной незнакомой звездой. Мир ждет ее воплощения в виде мистической розы. «Приготовьте свадебный чертог! Грядет небесный жених!». Старо-Петергофский, Аня, день рождения. Снегопад, буран. К ночи стихло. Ясный месяц, зеркальце. Красят скамейки в парке. Пруд, чайки, гуляющие, музыка, юный изумруд пробивается сквозь бурое, мертвое, прошлогоднее. У нас в квартире малярши, стекольщики. Лариса ушла за праздничным пайком для Лидии Андреевны, на бульвар Новаторов. Ветеранам, ко Дню Победы. Пришел врач, юный, высокий, тонкий, Олег Владимирович, делает зубной протез для Л.А. У него целый ящичек таких протезов, пробных, для пациентов, стариков и старух. Зачем крутится вихрь в овраге? Как сердцу высказать себя? До дна, дотла. Душа воды – зеркальный шар, разбитый о скалы. Океан угрюмый, думы, трюмы. Вечером к травнику на Черную речку. Нарвские ворота, Аня, старость женщин. Читаю язык. Шершаво, шаблонисто. Фонтанка, Кандинский в двух томах. Метро Чернышевская, чашка кофе, разговор о журнале. Отдал диски. Пришел мастер ставить счетчик воды. Бесшумно ходит на кошачьих лапах, пума. Статью в литературную энциклопедию. Зализняк, о «Слове о полку Игореве», подлинник или подделка. Мысленно древо. Новы тайны.
Май, влажно. Красные сережки, оброненные тополем, на белой кабине машины в переулке. Лариса, ее худоба, депрессия. Вырваться из дома, хоть куда-нибудь. Спасо-преображенский собор, черные купола, черные липы, темно-сизое небо, зелень газонов. Кто бо дал бы, да напишутся словеса моя, и положатся оная в книзе вовек. Корень словесе обрящем в нем. Иов. Сила слова рвет оковы. Этот день потрясает копьем. Ул.Декабристов, редактировать. Засиделись. Темно, пусто, автобуса нет. Шестерка, до Нарвских ворот. Едва успел до закрытия метро. День Победы. Девять орудий с «Авроры», под горой. Гроза, дождь. Знание без знаков. Темный корень мирового древа, растет, растет по ночам, вглубь, в немоту веков. Древняя пчела внутри янтаря. Посидеть где-нибудь. Невский. Коньяк Бержерак по сто грамм. Казанский собор, мостик этот. Подержались за золотые крылья грифонов. Быть счастливыми. Пешком до Сенной. Стоглавый дракон в броне алфавитов. Горит бессмыслицы звезда, она одна без дна. Путь в смерть и в широкое непонимание. Дымка за плечами. День жаркий, черемуха, куст у железной дороги, уже доносится знакомый запах. Стоит Некто с мечом и чашей. Тень на свитке времен. Василиск, гнедая лошадка, бушующее будущее опыляю, уверхаю лёто над муравой. Поэма конца и конец поэмы. Белый ворон в венке из молний. Где-то в какой-то книге написано: кто есть кто. Клавдия, хочет, чтобы я сказал что-нибудь по телевидению. Сорок дней. Храню в сердце. Хрупкий нервно-психический аппарат. Точность, точечность. Тогда, в марте, на вечере Чехова… При прощании на углу: «Никакая это не катастрофа». И пошел по Марата, на спине рюкзак. В последнюю встречу в кафе на Сенной: «Еще, может, и поживем. Весна наступает. Еще и буковки попишем». Сад весь в цвету. Тепло, влажно, черемуха, петух. Широкошумно. Сеть слов вылавливает чудищ морских: опять, опять этот древний ужас! Тайна письмен. Тюрьма смыслов. Душат шаблоны; ничего, ничего, друг матрешка, пробьем стену лбом. Малевич, два ангела-хранителя: белый квадрат на черном и черный на белом. Верит только в черное. Древний ворон. Страж северных ворот. Майская ночь, серпик, запахи цветения и молодой листвы, густой настой, тепло, влажно; вышел в одной рубашке, стою, дышу. Жизнь позволяет себе отражаться и позволяет видеть себя в зеркале. Но жизнь и ее отражение в зеркале не одно и то же. Зачем отражение, зачем зеркало? У древних китайцев, однако, именно отражение, луна в ручье, эхо в ущелье, считалось поэзией, а не сама луна, не сам звук. (То есть не сама жизнь, оригинал). Язык течет по новому руслу. Зовы новых губ. Верю в то, как делает природа. Мастер-невидимка, во всем видна его могучая рука-молния, его филигранный дух. Кому ничто не мелко, кто погружен в отделку кленового листа. Пуп земли, Дельфы, мраморный шар с двумя золотыми орлами по бокам, восток и запад. Шершаво живется друзьям истины. Филины и совы, сферы и просфоры. Белый ибис на плече Водолея. Цветущий сад. Посев. Семь, семья, семя. Жуки, лепестки, бабочки, облака, благоухание, петушок. Черемуха у железной дороги машет цветущим рукавом. Тепло, Алжир, чудный сон. Сверкающий рог голубой ночью. Дрожат редкие, в дымке, капельки звезд. Космос цветет, окутанный тонким сиянием. Утонченной жизни цвет. Чистописатель. Ни пятнышка. Красное ли красное? В телестудию на машине. Ночной город, май, теплынь, я в одной рубашке. Троица. Ночью болит рука, не дает спать. Под утро забылся. Снилось Слово, египетский Тот, бог языка и письмен. Он, Тот, заверил, что кому-кому, а ему-то понятен сей тонкий, паутинный путь слов, на котором вырастают эти невиданные, фантастические цветы, непонятные людям. Ему-то, Тоту, богу Слова – все понятно, абсолютно всё понятно! Так что же тебе еще, мурзик?.. Вечер, гроза, метель лепестков с яблонь. Буря выворачивает наизнанку лист ольхи; серебряная ладонь, нутро мира. Памяти нет, ничего не вижу. Что ж я тут делаю, слепой и ничего непомнящий? «В вечности от литературы остается только гротеск». Марсель Пруст. Молния и гром дают знак, что умершие здесь, с нами. Суровый свет совести, коготь сокола, желтое око. Пощады нет. На чаше весов свинцовая гирька сердца. Уважение к рождению и смерти. Не уважающих настигнет кара уже при жизни. Развенчанный и низвергнутый кумир, Комарово, море, мелко, шоссе, камешки. Кончено.
Не спится, вышел в сад, уже светло, какая-то птичка пиликает. Начало белых ночей. Жизнь нежная, беззащитная. Не то, всё не то. Мышиный король. Золотое клеймо неудачи. Один, сиротство. «Только образ рождает идею, и никогда идея – образ». Чехов. «Мы с тобой отворили калитку и по темной аллее пошли». Почему Аничков мост, дикие кони, голые юноши-укротители? Почему Арсеньев, почему – жизнь? Почему не чижик? Вот я стою под Полярной звездой в точке скрещения страшных сил. В этой точке сошлись все боли и скорби, все тяжести. «Сцена жизнесмерти». Айги. Где ты, душа? На суде оттенков? Или твой судья – Анубис, черный квадрат? Из квадрата я смотрю в «чуть-чуть» – и «чуть-чуть» ускользает. Дождь и мгла. Я тут седьмой день, сегодня уеду в город. Сирень на столе. Озираюсь: какой-то дом, Оредеж, обрыв, блеск этот… За цветами каштанов, от варикозного расширения вен. Уже осыпаются, набрали мешок, говорит, на три года хватит. К сестре. Вспомнили маму. Холод, тучи. Праздник города. Лежит, давление. Дело дрянь. Напился, гулял в парке, девки ночью, плохо, рвало, не спал. Непонятные порывы. Мучительная ночь и не менее мучительные, медные стрелы рассвета.
Июнь, вернуть книги. У Нарвских ворот долго ждал автобуса. Теплый ветер, флаги развеваются, девушки на остановке. Разговор, ненавистница нашего общего знакомого. «Не гений, не гений», говорит с ядовитым сарказмом. Предлагает написать предисловие: «Позвольте объясниться». Объяснение с читателями – как писалась книга, создание мифа, мифологизация. При прощании трижды расцеловала. Во дворе оглянулся, машет рукой из окна, я на бегу махнул в ответ. На асфальте густо насыпаны семена от каких-то деревьев, пух летит. Мглисто, тучи, холод. Спал, не спал. Под утро разболелась рука, правая, беда моя, стебель, пишущая лапка. Фонтаны. Игра радуги на ветру, на струях. Ночью опять болела рука, не дала спать. Чистый вечер, закат, стена туч через всё небо на западе, фиолетовая с розовым гребнем и зигзагами. Опять ночью болела рука, наказанье божье. Холодное лето. Горение, кипение. «Стих – это трансформированная речь; это – человеческая речь, переросшая сама себя». Тынянов. Эту ночь спал спокойно, рука сжалилась, не болела, почти, только под утро тревожила сквозь сон, но сон пересиливал боль. Кукушка, ветер в саду, шелест, седые головки одуванчиков, пчелка, душой исполненный полет. Путь богов, свой путь, супремус. Как будто существует некий незримый гигантский кристалл-многогранник, мировой алмаз, и при особых сочетаниях слов-лучей одна из его бесчисленных граней вдруг сверкнет в глаза. Тайна созвучий. «Лобзать уста младых Армид». Всегда новая земля и новое небо.
Погряз в знаках. Отец мой, мать моя?.. Великая Матерь всех живущих. Не пора ли вернуться в родной дом? «Что ты, сынок, такой невеселый?» спросит. «Теперь уж мы не разлучимся, теперь мы всегда будем вместе». У меня в груди вместо сердца было зеркальце, грустное кривое зеркальце мечтателя и фантазера; я споткнулся о знак зодиака, льющий из черной урны воду забвенья, и выронил это зеркальце; и вот оно разбилось и разлетелось на много-много осколков и стало звездами, большими и маленькими звездами этой, не знающей предела, Вселенной. Вечер. После дождя сыро, туман, комары; старая береза у реки, мешок с мусором, крутой берег, стук капель о картонную коробку. Светло. Так ведь белые ночи! Начало. Сад, холод, бледно-розовое на западе, сквозящее сквозь зелень деревьев. И трепет этот, и дрожь жизни сквозь меня. Глубокий вдох, глубже, глубже, как серп в небе, вдох бездонный, втянуть в себя всю эту ночь и задержать в себе, не выдыхать… Чую дуновение с юга. Скользнуть призраком по этой мглистой дорожке. Уничтоженье, смешенье, ковш чистой глуби… Засыпая, просыпаясь… Туманные ступени, вкус неизвестности, ожог радости, разрыв всех связей, вот сейчас увижу то, что нельзя никому видеть… Боль в руке под утро слабая. Зеркало, ветер, облако. Мой голос глух, мой волос сед. Певучий сумрак. Слеп, как Савл, очи в чешуе. Письма Блока – Менделеевой. Стоял наверху у раскрытого окна, солнце заходило, долго-долго дрожало его золотое марево, там, сквозь крону дальнего дерева, клена или тополя. Уже и ночь, полночь, а все еще так светло, такое чистое голубое небо, и стрижи несутся по этому голубому простору. Вот они, белые ночи. Сейчас, помчусь туда, в вихре мгновенья… Вихрь возникает из ниоткуда и несет в никуда, и я – никто, незнакомец , блеск воды, вздох ветра, вздрог неизвестности, ребенок, не родившийся в мир… Я несусь, и негде остановиться… Снится: брошенный корабль; вода – густо черная, как смола, зеркало, мертвый штиль. Обхожу помещения, заглядываю во все уголки. Ни души. Что тут произошло? Ни ветерка, ни звука. Океан, действительно, – Тихий, как его назвал Магеллан. Солнце в зените, палящее. Стальная палуба раскалена. Не знаю, что мне тут делать. Надо возвращаться к моей лодке. Подхожу к борту, смотрю: ужас! Лодки нет! Болтается у борта пустой трос… Всю ночь дождь. Утром опять гром, опять дождь. И тучи движутся – Батыи. Душная ночь, душный рассвет, душно, душно мне. Вышел на крыльцо босой. Небо совсем светлое, верхушки деревьев колышутся. Какие-то знаки. Читаю по веточкам, по камешкам, по капелькам росы на траве. Радость! Книга мгновения! И опять нас сожгут на этом костре. И мы полетим на крыльях сна и узнаем любимые места наших гуляний в давние, забытые белые ночи. Поцелуев мост, Нева, Новая Голландия. Пепел Клааса стучит в мое сердце. Ехать в город. Перепутал поезда. Стою на платформе, жду, рюкзак. Кто меня гонит? Поеду завтра. Лямка скуки. Горний ангелов полет… Умер Андрей Вознесенский.
Галерная, Волхв, усы, как у Перуна. Пел древние славянские песни. Вторую ночь не сплю, болит рука. Вчера, позавчера, дождь, буря. Двойное сознание, смена масок. «А под маской было звездно». Лучистые переклички, ведется таинственный, неслышный разговор их нежных и суровых душ. Я этот разговор слышу, он звучит в моих ушах, как пение тоненьких хрустальных колокольчиков. В Вырицу за квитанциями. Поезд ушел, показав хвост. Обратно по шпалам. Дымка, мутно, влажно, трава в ночном дожде, рыжий гравий насыпи пахнет дегтем. Жара, парит, купался. Гроза. Ночь душная, влажная, не уснуть. Лежал на спине, слушая железный гром поездов. Пили красное французское вино, гуляли до разлива. Комары, влажно, тучи. Вечером дождь. И ночью, барабанные палочки по железной крыше. Тучи, сестра, Цветаева, паутинка и росинка. Кто-то занес сюда семечко миров иных, оно проросло, стало писать книги. А ему говорят: «Ты так не пиши! Пиши по-нашему!». Похороны сна; сон хороню все тот же, детский свет незнакомой страны. Всеотменяющее Одиночество. Железно-льдисто. Идем в церковь Казанской Божией Матери, к святому Серафиму Вырицкому. Она в длинной юбке с ромашками, в соломенной шляпке. В церкви много народу, воскресенье, детский плач, крестят младенцев. Поставили свечки за здравие. В часовню. Молилась на коленях у гробницы Серафима, просила помощи, плакала. Сидели на скамейке у сосен. Пирожки с черникой. Пешком до вокзала. За обедом красное вино. Оса на стекле, стойкий воин, битва с незримым гигантом. Мужайтесь, боритесь, о храбрые други… Танец лучей в саду. В городе, жара, фонтаны, загорающие на траве. На почту, письмо в Ставропольский край. Вагончик с книгами. Веберн. Пьяная бабенка у пруда за рисовальной школой, едва на ногах держится, красивая и молодая, играла в мяч с младенцем, падала в траву. Тут же боролись два мальчика лет шести, близнецы. Солнце в пульсирующих кругах, в алой закатной дымке. Вот откроются западные ворота, и выйдут настройщики затаенных струн. «Ночь – лучшее время, чтобы верить в свет». Платон.
Ужинали на веранде, красное вино, вечер, многоярусье туч. Громыхнуло. Змейка в стекле, вторая, третья. Нарастающий шум ливня. Ларису от выпитого вина клонит в сон. А я возбужден грозовым электричеством, бьет дрожь. Не избежать сегодня бессонной ночи. Влажно. Мир твердосмертный. Шумят деревья и душа разрыта. Чудо понятия – «падают листья». Огромно и чисто. Вставные зубы в чашке с водой – скелет со дна глянул. Жасмин зацвел; железный вихрь по рельсам. Купались, нагромождение облаков, колокольчики за калиткой. Цветок ее имени, тот над пропастью, змееволосый, звездоочитый. Прага, прогулки, на мосту, луна больше неба, объятья, поцелуи. Нельзя, нельзя, при всех! Серп Селены нас не минет. Вода любит своих утопленников. Допили вино. Вечером за таволгой, насушим, лекарство. Лида, соседка, детский врач в школе, долго беседовали на веранде. Лида тихая, кроткая, голос робкий… А ночь: спи, спи, спи… Но опять и опять зовет меня знакомый-незнакомый голос. Амфитрита. И я просыпаюсь окончательно, бесповоротно, навсегда. Выхожу из воды на плоские доски мостков. Безлюдье, отмель… Сладко-дурманный запах таволги (сушится на веранде), зеленый стол, вянущая пена цветков. Вечерний сад, лучи прощально дрожат в листьях. Тоска уходящего солнца. Жасмин, стрижи, гул мух, звон зноя. Жить в безмыслии, утопая в лени. Встала мрачная, кашляет, разговор начистоту, все то же, что и прошлым летом. Невеселые веянья этих возвращений на круги своя. Надо жить в мире с непониманием. Начинаю ничего не понимать, как когда-то, в прежние, забытые времена, давным-давно, как во сне. Зачем же я хотел все понять? Червивое яблочко, запретное, с древа соблазна. Полдень, сад, бабочка. Где ты, гроза? Отблистало, отгоревало, отрыдало. Туман-шаман. Заблудился в спиралях и вихрях, в поле незнаеме, на неведомых дорожках. Встал, утро, тишина, Гильгамеш. Трава бессмертья, добытая со дна древнего океана, исчезает, как влажный след сновиденья на моей подушке. Месяц-льдинка. Петушок поет, откуда-то, из блаженной страны, голос такой чистый, звонкий. Лето, июль, радость. Все как когда-то. Радость еще есть во мне, еще жизнь, еще живу. Это и нужно и верно – когда никто никому. Плыть спящей щекою. Прочли мы эти туманные письмена в общей братской крови. Звон ускользающих слов. Мы не успеваем их впитывать. Всё больше мягкостью, ни для кого – закат. У него такое доброе, ясное лицо, и оно что-то говорит мне, прощаясь. Говорит: «До завтра, дружок! Не грусти, вернусь!». Песенка для себя. Жара, как тогда, в Атлантике, в юности. Та жизнь давно отхлынула. Пустопенно. На лодке, кувшинки, купальщики. Треск костра на том берегу, веселое, алое пламя, всепожирающее, очистительное. Ушла собирать листья земляники на опушке. Искупался. Новорожденный. Стою на горячем песке босыми ступнями, в забытьи, долго-долго, вечность, в объятиях солнца. Не хочется просыпаться окончательно, покидать это полусонное состояние, эту расплывчатую область неясных чувств. Пытаюсь зацепиться за клочок дремучей водоросли и еще побыть хоть сколько-нибудь на границе сна и яви, в промежутке, в паузе, пытаюсь пожить в этой стране пограничных чувств, уловить ветер с ее цветущих берегов. Отглаженные отливами пески, одна волна, на ее гребне – тот, «Золотой жук», Эдгар. Радужный трепет в его «Маргиналиях». Драгоценная поблеклость, патина, многое мира. Почему я так мало помню, живу в каком-то полубеспамятстве, вздрагиваю от каждого шороха… Может быть, это тихо-тихо, призрачно стучит в дверь ( не от тебя ли, далекий человек) – чуть беспокоя: весть?.. Душная ночь, комары, не спится, небо – зеленоватый нефрит. К реке, пьяные; наяда, нырнула, блеснув грудью. В Вырицу за лекарствами для Л.А. Печет. Аптека. Жду во дворе в тени под липами. Прошла, шелестя и блестя. Гроза назревает, томительное нарастание. Туча уронила две капли – вот и весь дождь. Белокостно-огромный день, пекло, рынок, облака. Выбирает рыбу, жду в тени, три цыганки, колеса в ушах. Только вернулись и – дождь. Долгожданный! Сумрак рвет, жасмин взмок, хорошо, хорошо, дышать можно! Гора с плеч, свежо, перламутр. Проснулся сегодня, и это летучее чувство упорхнуло опять, оставив только едва уловимое, мгновенное дуновение мысли: огромный, неизвестный день впереди. Ребристо-новое небо, какие-то знаки, в саду, на траве, на дороге, всюду, не разгадать. Страшная тишина, поистине страшная. Доносится звон посуды в соседнем доме. Неужели я еще живу?.. Пузыри на реке, мутно, желто, пни, лодки, еловый лес. Не хватает какого-то звучика, муравьиного шага, вздоха… Где же прячется ключик этих тайн? Грудь давит. Не буду, не буду сегодня ни с кем говорить, ни полслова… И вот, наконец, облако, забытое, из другого мира! Оно – спасенье от бездонного, неумолимого Дня, с его неразгаданностью, его шифром. Лестница между двух небес, шатается, гнется, тает… Иаков, зигзаги… Сад после грозы вечером, отряхивается, шорох капель. Тройная радуга во всю небесную ширь, тающий семицветный мост.
Суббота. Пестрое колесо снов. Гигантское крыло энергии во весь мир, в высоте, вчера, уже погасло. Сухой пол, раскрытое окно, ветерок, предчувствие полета, как в юности. Син, сын сини. Чара голубого вина, священное число 317 в чистом, безоблачном небе. Ноги-волны идущего по этому гребню, шаги-вихри. Слышу доносящийся с этих смутных высот, скрытый из-за горы, единый хор живых и мертвых. Меня зовут, я молчу, мой рот замкнут, я не пою в этом общем хоре. Кто я? Не тот и не этот. Не знаю. Сам себе незнакомец, никто и некто. Мой день впереди, там – закат, сизо-чешуйчатый запад, отмененность сил, зависшие в пустоте, красные, изгибистые строки над горизонтом. Иду туда. Немота – это накал. Белое пламя. Место встречи сил, смерть хороводов, полушка за душой, нищее серебро, апокалипсис окончательной точки. Застарелые, рыжие травы на склоне. Мощно молчит гора. Вагнер. Стол, хлеб, вино. Слов не помню. Я в долгу перед вами, первые небеса, первый звук и первый цвет. Поэты-пчелы, солнечный мед скальдов. Все же – молчу. Мастерство – это молчание. Мастер молчалив. Знойно. Привезли инвалидную коляску для Л.А.. Муравей взбирается на вершину цветка, как на башню. Тающий шелест волны из последнего, перед пробуждением, сна на рассвете. Эта волна пришла с вестью от древнего, давно отшумевшего океана. Белые, бедные, седые волны, плещущие в берег дальний. Радость луча в саду. Радость в том, что моей нищете ничего не надо. Подкованный терминами Пегас, загнанный ездоками в магистерских мантиях, пал на дороге, гордый скакун, шепот гор, «Падаль» Бодлера. Пенье зреет, блеск безликих. Красный слон с закрученным хоботом, на животе написано: Маяковский. День, жара. В Европе + 40. Еще неделя – и будем, как две обугленных головешки. Заря, шелест блекло-алых платьев в саду. Куй-син, дух Полярной звезды. Камень с отливом сине-роковым. Все та же жара, дыхание пекла. Наполнил бочку для душа на дворе, по лесенке, обливаясь потом, шатаясь, как пьяный, отбиваясь от слепней. Купались, недолгое освежение. В саду, в тени, на скамейке, читали. За молоком, два магазина закрыты, третий открыт. Жду под елями.
Всё тот же круг, замкнутый тихим отчаянием. Жара усилилась, марево зноя с утра. В Колпино образовался смерч, поднял и отбросил машину. Тропические повадки атмосферных духов, аномалии климата. Прячемся в саду под сливой. Сон: будто бы стройка, горы земли, песка, орошаемые струями. Под обрывом – люди, море, отлив; люди чего-то ждут, смотрят на море. Мне не протиснуться сквозь толпу этих ждущих. Тут же какое-то старое каменное здание, с ржавой башенкой на крыше. И вот я внутри, темно, мусор, пыль, переломанные школьные парты. Хожу из помещения в помещение, с этажа на этаж, коридоры, лестницы. Мне никак отсюда не выбраться. Спрашиваю у старух в черных траурных платках: где выход? Они показывают: там! Иду на смутно брезжущий, пыльный свет, как в пещере. Какой-то широкий двор. Грязь. С трудом пробираюсь, глядя под ноги, где б чистое место, чтоб не запачкаться. Кто-то называет меня по имени, знакомый голос, но мне не вспомнить… Жребий. Смелый бросок тела в пропасть. Может, я где-то далеко в темном поле… «Веяние неуловимого». Метерлинк. Мотыльки. Купались. Пурпурный час заката; робкое, едва ощутимое прикосновение. Разве к человеку речь моя?.. Не спится, в саду мелькают призрачные фигуры, сквозное покрывало. Пудовые веки Вия, кто их поднимет?.. Тяжелый зной, облака, душно. С запада надвигается сизо-темное. Бежим через лес, ветер налетает, качаются еловые лапы, шумят вершины. У магазина пыльные вихри. На обратном пути все уже темно вокруг, гроза застала в лесу, грохот грома, молнии блистают. Добежали до калитки уже под дождем. Приключение. Пьем красное французское вино. Гроза разбушевалась, ливень. Через час стихло. Электричество опять отключили. Где-нибудь провода оборваны. В полночь иду спать во времянку. Третий том Блока, голубой, потертый. Буйной музыки волна. Не спится, душно, влажно. Тучи. Что-то ведь я любил? Что? Что-то призрачное и ускользающее, какую-то дымку жизни, какой-то неясный ореол, как луна в тумане. Любил все смутное, смуту, смятенье, волненье. Следи за остротой иглы, царапающей узор, больше от тебя ничего не требуется. Ощущение, где твои чуткие, что-то ищущие в темноте щупальца? Спи, спи, зародыш, ты еще в тепле и уюте, в утробе матери. Выйдет из туч бык, стряхнет в наш сад иней с серебряных своих рогов. Вижу, вижу: в бычьей маске – это ты, Отче! Мастер филигранных снежинок в суровом фартуке уже приготовил мне чистый стол февраля. Новые раковины дней, завитые тревожной улиткой вьюги. Мастер – это молния, и он знает, куда ударит молот. Начинает с иголки в стоге сена, а находит никогда не бывшую Трою.
Необходимо зарегистрироваться, чтобы иметь возможность оставлять комментарии и подписываться на материалы

